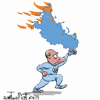ПРЕДИСЛОВИЕ
В предисловии к своему сочинению “К критике политической экономии”, Берлин, 1859, Карл Маркс рассказывает, как мы в 1845 г. в Брюсселе решили “сообща разработать наши взгляды”,— а именно, выработанное главным образом Марксом материалистическое понимание истории,— в противоположность идеологическим взглядам немецкой философии, в сущности свести счеты с нашей прежней философской совестью. Это намерение было осуществлено в форме критики послегегелевской философии. Рукопись — в объеме двух толстых томов в восьмую долю листа — давно уже прибыла на место издания в Вестфалию, когда нас известили, что изменившиеся обстоятельства делают ее напечатание невозможным. Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — уяснение дела самим себе — была достигнута [1].
С тех пор прошло более сорока лет, и Маркс умер. Ни ему, ни мне ни разу не представился случай вернуться к названному предмету. Насчет нашего отношения к Гегелю мы по отдельным поводам высказывались, но нигде не сделали этого со всей полнотой. Что касается Фейербаха, который все же в известном отношении является посредствующим звеном между философией Гегеля и нашей теорией, то к нему мы совсем не возвращались.
Тем временем мировоззрение Маркса нашло приверженцев далеко за пределами Германии и Европы и на всех литературных языках мира. С другой стороны, классическая немецкая философия переживает за границей, особенно в Англии и в скандинавских странах, что-то вроде возрождения. И даже в Германии, повидимому, наступает пресыщение той нищенской эклектической похлебкой, которая подается в тамошних университетах под именем философии.
Ввиду этого мне казалось все более и более своевременным изложить в сжатой систематической форме наше отношение к гегелевской философии,— как мы из нее исходили и как мы с ней порвали. Точно так же я считал, что за нами остается неоплаченный долг чести: полное признание того влияния, которое в наш период бури и натиска оказал на нас Фейербах в большей мере, чем какой-нибудь другой философ после Гегеля. Поэтому я охотно воспользовался случаем, когда редакция журнала “Neue Zeit” попросила меня написать критический разбор книги Штарке о Фейербахе [2]. Моя работа появилась в № 4 и 5 названного журнала за 1886 г., а теперь выходит отдельным, пересмотренным мной, оттиском.
Прежде чем отправить в печать эти строки, я отыскал и еще раз просмотрел старую рукопись 1845—1846 годов. Отдел о Фейербахе в ней не закончен. Готовую часть составляет изложение материалистического понимания истории; - это изложение показывает только, как еще недостаточны были наши тогдашние познания в области экономической истории. В рукописи недостает критики самого учения Фейербаха; она поэтому не могла быть пригодной для данной цели. Но зато в одной старой тетради Маркса я нашел одиннадцать тезисов о Фейербахе, которые и напечатаны в качестве приложения. Это—наскоро набросанные заметки, подлежавшие дальнейшей разработке и отнюдь не предназначавшиеся для печати. Но они неоценимы как первый документ, содержащий в себе гениальный зародыш нового мировоззрения.
Лондон, 21 февраля 1888 г.
Фридрих Энгельс
Печатается по тексту Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. изд. 2, т. 21, стр. 370—371
ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ
НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ [3]
Рассматриваемое сочинение возвращает пас к периоду, по времени отстоящему от нас на одно человеческое поколение, но ставшему до такой степени чуждым нынешнему поколению в Германии, как если бы он был отдален от него уже на целое столетие. И все же это был период подготовки Германии к революции 1848 г., а все, происходившее у нас после, явилось лишь продолжением 1848 г., выполнением завещания революции.
Подобно тому как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке философская революция предшествовала политическому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти философские революции! Французы ведут открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы—профессора, государством назначенные наставники юношества; их сочинения— общепризнанные руководства, а система Гегеля — венец всего философского развития — до известной степени даже возводится в чин королевско-прусской государственной философии! И за этими профессорами, за их педантически-темными словами, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция? Да разве те люди, которые считались тогда представителями революции,—
либералы—не были самыми рьяными противниками этой философии, вселявшей путаницу в человеческие головы? Однако то, чего не замечали ни правительства, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере, один человек; его звали, правда, Генрих Гейне [4].
Возьмем пример. Ни одно из философских положений не было предметом такой признательности со стороны близоруких правительств и такого гнева со стороны не менее близоруких либералов, как знаменитое положение Гегеля:
“Все действительное разумно; все разумное действительно” [5].
Ведь оно, очевидно, было оправданием всего существующего, философским благословением деспотизма, полицейского государства, королевской юстиции, цензуры. Так думал Фридрих-Вильгельм III; так думали и его подданные. Но у Гегеля вовсе не все, что существует, является безоговорочно также и действительным. Атрибут действительности принадлежит у него лишь тому, что в то же время необходимо.
“В своем развертывании действительность раскрывается как необходимость”.
Та или иная правительственная мера—сам Гегель берет в качестве примера “известное налоговое установление”—вовсе не признается им поэтому безоговорочно за нечто действительное6. Но необходимое оказывается, в конечном счете, также и разумным, и в применении к тогдашнему прусскому государству гегелевское положение означает, стало быть, только следующее: это государство настолько разумно, настолько соответствует разуму, насколько оно необходимо. А если оно все-таки оказывается, на наш взгляд, негодным, но, несмотря на свою негодность, продолжает существовать, то негодность правительства находит свое оправдание и объяснение в соответственной негодности подданных. Тогдашние пруссаки имели такое правительство, какого они заслуживали.
Однако действительность по Гегелю вовсе не представляет собой такого атрибута, который присущ данному общественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все времена. Напротив. Римская республика была действительна, но действительна была и вытеснившая ее Римская империя. Французская монархия стала в 1789 г. до такой степени недействительной, то есть до такой степени лишенной всякой необходимости, до такой степени неразумной, что ее должна была уничтожить великая революция, о которой Гегель всегда говорит с величайшим воодушевлением. Здесь, следовательно, монархия была недействительной, а революция действительной. И совершенно так же, по мере развития, все, бывшее прежде действительным, становится недействительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование, свою разумность. Место отмирающей действительности занимает новая, жизнеспособная действительность, занимает мирно, если старое достаточно рассудительно, чтобы умереть без сопротивления,—насильственно, если оно противится этой необходимости. Таким образом, это гегелевское положение благодаря самой гегелевской диалектике превращается в свою противоположность: все действительное в области человеческой истории становится со временем неразумным, оно, следовательно, неразумно уже по самой своей природе, заранее обременено неразумностью;
а все, что есть в человеческих головах разумного, предназначено к тому, чтобы стать действительным, как бы ни противоречило оно существующей кажущейся действительности. По всем правилам гегелевского метода мышления, тезис о разумности всего действительного превращается в другой тезис: достойно гибели все то, что
существует.
Но именно в том и состояло истинное значение и революционный характер гегелевской философии (которой, как завершением всего философского движения со времени Канта, мы должны здесь ограничить наше рассмотрение), что она раз и навсегда разделалась со всяким представлением об окончательном характере результатов человеческого мышления и действия. Истина, которую должна познать философия, представлялась Гегелю уже не в виде собрания готовых догматических положений которые остается только зазубрить, раз они открыты- истина теперь заключалась в самом процессе познания в длительном историческом развитии науки, поднимающейся с низших ступеней знания на все более высокие, но никогда не достигающей такой точки, от которой она, найдя некоторую так называемую абсолютную истину, уже не могла бы пойти дальше и где ей не оставалось бы ничего больше, как, сложа руки, с изумлением созерцать эту добытую абсолютную истину. И так обстоит дело не только в философском, но и во всяком другом познании, а равно и в области практического действия. История так же, как и познание, не может получить окончательного завершения в каком-то совершенном, идеальном состоянии человечества; совершенное общество, совершенное “государство”, это—вещи, которые могут существовать только в фантазии. Напротив, все общественные порядки, сменяющие друг друга в ходе истории, представляют собой лишь преходящие ступени бесконечного развития человеческого общества от низшей ступени к высшей. Каждая ступень необходима и, таким образом, имеет свое оправдание для того времени и для тех условий, которым она обязана своим происхождением. Но она становится непрочной и лишается своего оправдания перед лицом новых, более высоких условий, постепенно развивающихся в ее собственных недрах. Она вынуждена уступить место более высокой ступени, которая, в свою очередь, также приходит в упадок и гибнет. Эта диалектическая философия разрушает все представления об окончательной абсолютной истине и о соответствующих ей абсолютных состояниях человечества так же, как буржуазия посредством крупной промышленности, конкуренции и всемирного рынка графически разрушает все устоявшиеся, веками освященные учреждения. Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. У нее, правда, есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий, но не больше. Консерватизм этого способа понимания относителен, его революционный характер абсолютен—вот единственное абсолютное, признаваемое диалектической философией.
Нам нет надобности вдаваться здесь в рассмотрение вопроса о том, вполне ли этот способ понимания согласуется с нынешним состоянием естественных наук, которые самой Земле предсказывают возможный, а ее обитаемости довольно достоверный конец и тем самым говорят, что и у истории человечества будет не только восходящая, но и нисходящая ветвь. Мы находимся, во всяком случае, еще довольно далеко от той поворотной точки, за которой начнется движение истории общества по нисходящей линии, и мы не можем требовать от гегелевской философии, чтобы она занималась вопросом. еще не поставленным в порядок дня современным ей естествознанием.
Однако здесь необходимо заметить следующее: вышеприведенные взгляды не даны Гегелем в такой резкой форме. Это вывод, к которому неизбежно приводит его метод, но этот вывод никогда не был сделан им самим с такой определенностью, и по той простой причине, что Гегель вынужден был строить систему, а философская система, по установившемуся порядку, должна была завершиться абсолютной истиной того или иного рода. И тот же Гегель, который, особенно в своей “Логике”7, подчеркивает, что эта вечная истина есть не что иное, как сам логический (resp.3): исторический) процесс,— тот же самый Гегель видит себя вынужденным положить конец этому процессу, так как надо же было ему на чем-то закончить свою систему. В “Логике” этот конец он снова может сделать началом, потому что там конечная точка, абсолютная идея,— абсолютная лишь постольку, поскольку он абсолютно ничего не способен сказать о ней,—“отчуждает” себя (то есть превращается) в природу, а потом в духе,—то есть в мышлении и в истории, —снова возвращается к самой себе. Но в конце всей философии для подобного возврата к началу оставался только один путь. А именно, нужно было так представить себе конец истории: человечество приходит к познанию как раз этой абсолютной идеи и объявляет, что это познание абсолютной идеи достигнуто в гегелевской философии. Но это значило провозгласить абсолютной истиной все догматическое содержание системы Гегеля н тем стать в противоречие с его диалектическим методом,
разрушающим все догматическое. Это означало задушить революционную сторону под тяжестью непомерно разросшейся консервативной стороны,— и не только в области философского познания, но и в исторической практике. Человечество, которое в лице Гегеля додумалось до абсолютной идеи, должно было и в практической области оказаться ушедшим вперед так далеко, что для него уже стало возможным воплощение этой абсолютной идеи в действительность. Абсолютная идея не должна была, значит, предъявлять своим современникам слишком высокие практические политические требования. Вот почему мы в конце “Философии права” узнаем, что абсолютная идея должна осуществиться в той сословной монархии, которую Фридрих-Вильгельм III так упорно и так безрезультатно обещал своим подданным, то есть, стало быть, в ограниченном и умеренном косвенном господстве имущих классов, приспособленном к тогдашним мелкобуржуазным отношениям Германии. И притом нам еще доказывается умозрительным путем необходимость дворянства.
Итак, уже одни внутренние нужды системы достаточно объясняют, почему в высшей степени революционный метод мышления привел к очень мирному политическому выводу. Но специфической формой этого вывода мы обязаны, конечно, тому обстоятельству, что Гегель был немец и, подобно своему современнику Гёте, не свободен от изрядной дозы филистерства. Гёте, как и Гегель, был в своей области настоящий Зевс-олимпиец, но ни тот, ни другой не могли вполне отделаться от немецкого филистерства.
Все это не помешало, однако, тому, что гегелевская система охватила несравненно более широкую область, чем какая бы то ни была прежняя система, и развила в этой области еще и поныне поражающее богатство мыслей. Феноменология духа (которую можно было бы назвать параллелью эмбриологии и палеонтологии духа, отображением индивидуального сознании на различных ступенях его развития, рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных человеческим сознанием), логика, философия природы, философия духа, разработанная в ее отдельных исторических подразделениях: философия истории, права, религии, история философии, эстетика и т. д.,—в каждой из этих различных исторических областей Гегель старается найти и указать проходящую через нее нить развития. А так как он обладал не только творческим гением, но и энциклопедической ученостью, то его выступление везде составило эпоху. Само собой понятно, что нужды “системы” довольно часто заставляли его здесь прибегать к тем насильственным конструкциям, по поводу которых до сих пор поднимают такой ужасный крик его ничтожные противники. Но эти конструкции служат только рамками, лесами возводимого им здания. Кто не задерживается излишне на них, а глубже проникает в грандиозное здание, тот находит там бесчисленные сокровища, до настоящего времени сохранившие свою полную ценность. У всех философов преходящей оказывается как раз “система”, и именно потому, что системы возникают из непреходящей потребности человеческого духа: потребности преодолеть все противоречия. Но если бы все противоречия были раз навсегда устранены, то мы пришли бы к так называемой абсолютной истине,—всемирная история была бы закончена и в то же время должна была бы продолжаться, хотя ей уже ничего не оставалось бы делать. Таким образом, тут получается новое, неразрешимое противоречие. Требовать от философии разрешения всех противоречий, значит требовать, чтобы один философ сделал такое дело, какое в состоянии выполнить только все человечество в своем поступательном развитии. Раз мы поняли это,— а этим мы больше, чем кому-нибудь, обязаны Гегелю,—то всей философии в старом смысле слова приходит конец. Мы оставляем в покое недостижимую на этом пути и для каждого человека в отдельности “абсолютную истину” и зато устремляемся в погоню за достижимыми для нас относительными истинами по пути положительных наук и обобщения их результатов при помощи диалектического мышления. Гегелем вообще завершается философия, с одной стороны, потому, что его система представляет собой величественный итог всего предыдущего развития философии, а с другой—потому, что он сам, хотя и бессознательно, указывает нам путь, ведущий из этого лабиринта систем к действительному положительному познанию мира.
Нетрудно понять, какое огромное воздействие должна была произвести гегелевская система в философски окрашенной атмосфере Германии. Это было триумфальное шествие, длившееся целые десятилетия и далеко не прекратившееся со смертью Гегеля. Напротив, именно период с 1830 до 1840 г. был временем исключительного господства “гегельянщины”, заразившей в большей или меньшей степени даже своих противников; именно в этот период взгляды Гегеля, сознательным или бессознательным путем, в изобилии проникали в самые различные науки и давали закваску даже популярной литературе и ежедневной печати, из которых среднее “образованное сознание” черпает свой запас идеи. Но эта победа по всей линии была лишь прологом междоусобной войны.
Взятое в целом, учение Гегеля оставляло, как мы видели, широкий простор для самых различных практических партийных воззрений. А практическое значение имели в тогдашней теоретической жизни Германии прежде всего две. вещи—религия и политика. Человек, придававший главное значение системе Гегеля, мог быть довольно консервативным в каждой из этих областей. Тот же, кто главным считал диалектический метод, мог и в религии и в политике принадлежать к самой крайней оппозиции. Сам Гегель, несмотря на довольно частые в его сочинениях взрывы революционного гнева, в общем, по-видимому, склонялся больше к консервативной стороне: недаром же его система стоила ему гораздо более “тяжелой работы мысли”, чем его метод. К концу тридцатых годов раскол в его школе становился все более и более заметным. В борьбе с правоверными пиетистами и феодальными реакционерами левое крыло—так называемые младогегельянцы — отказывалось мало-помалу от того философски-пренебрежительного отношения к жгучим вопросам дня, которое обеспечивало до снх пор его учению терпимость и даже покровительство со стороны правительства. А когда в 1840 г. правоверное ханжество и феодально-абсолютистская реакция вступили на престол в лице Фридриха-Вильгельма IV, пришлось открыто стать на сторону той или другой партии. Борьба велась еще философским оружием, но уже не ради абстрактно-философских целей. Речь прямо шла уже об уничтожении унаследованной религии н существующего государства. И если в “Deutsche Jahrbucher”8 практические конечные цели выступали по преимуществу еще в философском одеянии, то в “Rheinische Zeitung” 9 1842 г. младогегельянство выступило уже прямо как философия поднимающейся радикальной буржуазии; философский плащ служил ей лишь для отвода глаз цензуре.
Но путь политики был тогда весьма тернистым, поэтому главная борьба направлялась против религии. Впрочем, в то время, особенно с 1840 г., борьба против религии косвенно была и политической борьбой. Первый толчок дала книга Штрауса “Жизнь Иисуса”, вышедшая в 1835 году10. Против изложенной в этой книге теории возникновения евангельских мифов выступил позднее Бруно Бауэр, доказывавший, что целый ряд евангельских рассказов сфабрикован самими авторами евангелий. Спор между Штраусом и Бауэром велся под видом философской борьбы между “самосознанием” и “субстанцией”. Вопрос о том, возникли ли евангельские рассказы о чудесах путем бессознательного, основанного на традиции, создания мифов в недрах общины или же они были сфабрикованы самими евангелистами,—разросся до вопроса о том, что является главной действующей силой во всемирной истооии: “субстанция” или “самосознание”. Наконец, явился Штирнер, пророк современного анархизма—у него очень много заимствовал Бакунин—и перещеголял суверенное “самосознание” своим суверенным “единственным”".
Мы не станем подробнее рассматривать эту сторону процесса разложения гегелевской школы. Для нас важнее следующее: практические потребности их борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных младогегельянцев к англо-французскому материализму. И тут они вступили в конфликт с системой своей школы. В то время как материализм рассматривает природу как единственно действительное, в гегелевской системе природа является всего лишь “отчуждением” абсолютной идеи, как бы ее деградацией; во всяком случае, мышление и его мыслительный продукт, идея, являются здесь первичным, а природа—производным, существующим лишь благодаря тому, что идея снизошла до этого. В этом противоречии и путались на разные лады младогегельянцы.
Тогда появилось сочинение Фейербаха “Сущность христианства”12. Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова н без обиняков провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это—лишь фан-тастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято; “система” была взорвана и отброшена в сторону, противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении.— Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы стали сразу фейербахианцами. С каким энтузиазмом приветствовал Маркс новое воззрение и как сильно повлияло оно на него, несмотря на все критические оговорки, можно представить себе, прочитав “Святое семейство” 13.
Даже недостатки книги Фейербаха усиливали тогда ее влияние. Беллетристический, местами даже напыщенный слог обеспечивал книге широкий круг читателей и, во всяком случае, действовал освежающе после долгих лет господства абстрактной и темной гегельянщины. То же следует сказать и о непомерном обожествлении любви, которое можно было извинить, хотя и не оправдать, как реакцию против ставшего невыносимым самодержавия “чистого мышления”. Мы не должны, однако, забывать, что именно за обе эти слабые стороны Фейербаха ухватился “истинный социализм”, который, как зараза, распространялся с 1844 г. в среде “образованных” людеч Германии и который научное исследование заменял беллетристической фразой, а па место освобождения пролетариата путем экономического преобразования производства ставил освобождение человечества посредством “любви”,—словом, ударился в самую отвратительную беллетристику и любвеобильную болтовню. Типичным представителем этого направления был г-н Карл Грюи.
Не следует, далее, забывать и следующего: гегелевская школа разложилась, но гегелевская философия еик' не была критически преодолена. Штраус и Бауэр, взяв каждый одну из ее сторон, направили их, как полемическое оружие, друг против друга. Фейербах разбил систему и попросту отбросил ее. Но объявить данную философию ошибочной еще не значит покончить с ней. И нельзя было посредством простого игнорирования устранить такое великое творение, как гегелевская философия, которая имела огромное влияние на духовное развитие нации. Ее надо было “снять” в ее собственном смысле, то есть критика должна была уничтожить ее форму и спасти добытое ею новое содержание. Ниже мы увидим, как решена была эта задача.
Тем временем, однако, революция 1848 г. так же бесцеремонно отодвинула в сторону всякую философию, как Фейербах своего Гегеля. А вместе с тем был оттеснен на задний план и сам Фейербах.
II
Великий ociiaiie вопрос всей, в особенности новейшей, философии есть вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений 4), пришли к тому представлению, что их мышление и ощущения есть деятельность не их тела, а какой-то особой души, обитающей в этом теле и покидающей его при смерти,—уже с этого времени они должны были задумываться об отношении этой души к внешнему миру. Если она в момент смерти отделяется от тела и продолжает жить, то нет никакого повода придумывать для нее еще какую-то особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, которое на той ступени развития казалось отнюдь не утешением, а неотвратимой судьбой и довольно часто, например у греков, считалось подлинным несчастьем. Не религиозная потребность в утешении приводила всюду к скучному вымыслу о личном бессмертии, а то простое обстоятельство, что, раз признав существование души, люди в силу всеобщей ограниченности никак не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти тела. Совершенно подобным же образом вследствие олицетворения сил природы возникли первые боги, которые в
ходе дальнейшего развития религии принимали все более и более облик внемировых сил, пока в результате процесса абстрагирования—я чуть было не сказал: процесса дистилляции,—совершенно естественного в ходе умственного развития, в головах людей не возникло, наконец, из многих более или менее ограниченных и ограничивающих друг друга богов представление о едином, исключительном боге монотеистических религий.
Высший вопрос всей философии, вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе, имеет свои корни, стало быть, не в меньшей степени, чем всякая религия, в ограниченных и невежественных представлениях людей периода дикости. Но он мог быть поставлен со всей резкостью, мог приобрести все свое значение лишь после того, как население Европы пробудилось от долгой зимней спячки христианского средневековья. Вопрос об отношении мышления к бытию, о том, что является первичным: дух или природа,—этот вопрос, игравший, впрочем, большую роль и в средневековой схоластике, вопреки церкви принял более острую форму: создан ли мир богом или он существует oo века?
Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира,—а у философов, например у Гегеля, сотворение мира принимает нередко еще более запутанный и нелепый вид, чем в христианстве,—составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма.
Ничего другого первоначально и не означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им придают какое-либо другое значение.
Но вопрос об отношении мышления к бытию имеет еще и другую сторону: как относятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? В состоянии ли наше мышление познавать действительный мир, можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? На философском языке этот вопрос называется вопросом о тождестве мышления и бытия. Громадное большинство философов утвердительно решает этот вопрос. Так, например, у Гегеля утвердительный ответ на этот вопрос подразумевается сам собой: в действительном мире мы познаем именно его мыслительное содержание, именно то, благодаря чему мир оказывается постепенным осуществлением абсолютной идеи, которая от века существовала где-то независимо от мира и прежде него. Само собой понятно, что мышление может познать то содержание, которое уже заранее является содержанием мысли. Не менее понятно также, что доказываемое положение здесь молчаливо уже содержится в самой предпосылке. Но это никоим образом не мешает Гегелю делать из своего доказательства тождества мышления и бытия тот дальнейший вывод, что так как его мышление признает правильной его философию, то, значит, она есть единственно правильная философия и что, в силу тождества мышления и бытия, человечество должно немедленно перенести эту философию из теории в практику и переустроить весь мир сообразно гегелевским принципам. Эту иллюзию он разделяет почти со всеми другими философами.
Но рядом с этим существует ряд других философов, которые оспаривают возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего познания. К "им принадлежат среди новейших философов Юм и Кант, и они играли очень значительную роль в развитии философии. Решающее для опровержения этого взгляда сказано уже Гегелем, насколько это .можно было сделать с идеалистической точки зрения. Добавочные материалистические соображения Фейербаха более остроумны, чем глубок". Самое же решительное опровержение этих, как и всех прочих, философских вывертов заключается в прак-тике, именно в эксперименте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что сами его производим, вызываем его из aai условий, заставляем его к тому же служить нашим целям, то кантовской неуловимой “вещи в caaa" приходит конец. Химические вещества, образующиеся в телах животных и растений, оставались такими “вещами в себе”, пока органическая химия не стала приготовлять их одно за другим; тем самым “вещь в себе” превращалась в вещь для нас, как например, ализарин, красящее вещество марены, которое мы теперь получаем не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораздо дешевле и проще из каменноугольного дегтя. Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье на основании данных этой системы не только доказал, что должна существовать еще одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету15, система Коперника была доказана. И если неокантианцы в Германии стараются воскресить взгляды Канта, а агностики в Англии— взгляды Юма (никогда не вымиравшие там), несмотря на то, что и теория и практика давно уже опровергли и те и другие, то в научном отношении это является шагом назад, а на практике—лишь стыдливой манерой тайком протаскивать материализм, публично отрекаясь от него.
Однако в продолжение этого длинного периода, от Декарта до Гегеля и от Гоббса до Фейербаха, философов толкала вперед отнюдь не одна только сила чистого мышления, как они воображали. Напротив. В действительности их толкало вперед главным образом мощное, все более быстрое и бурное развитие естествознания e промышленности. У материалистов это прямо бросалось в глаза. Но и идеалистические системы все более и более наполнялись материалистическим содержанием и пытались пантеистически примирить противоположность духа и материи. В гегелевской системе дело дошло, наконец, до того, что она и по методу и по содержанию представляет собой лишь идеалистически на голову поставленный материализм.
После всего сказанного понятно, почему Штарке в своей характеристике Фейербаха прежде всего исследует его позицию в этом основном вопросе—об отношении мышления к бытию. После краткого введения, в котором взгляды прежних философов, в особенности начиная с Канта, излагаются излишне тяжелым философским языком и в котором Гегель не получает должной оценки, так как автор с чрезмерным формализмом цепляется за отдельные места его сочинений, следует подробное изложение хода развития самой oaea?aaoiaeie “метафизики”, как это развитие последовательно отражалось с относящихся сюда сочинениях этого философа. Это изложение сделано старательно и отличается ясностью построения, только оно, как и вся книга Штарке, перегружено балластом философских выражений, употребление которых отнюдь не всегда неизбежно. Этот балласт является тем большей помехой, что автор не придерживается терминологии, принятой какой-нибудь одной школой или хотя бы самим Фейербахом, а перемешивает термины, принятые самыми различными направлениями. и преимущественно теми, которые именуют себя философскими и распространяются ныне подобно заразе.
Ход развития Фейербаха есть ход развития гегельянца,—правда, вполне правоверным гегельянцем он не был никогда,—к материализму. На известной ступени это развитие привело его к полному разрыву с идеалистической системой своего предшественника. С неудержимой силой овладело им, наконец, сознание того, что гегелевское домировое существование “абсолютной идеи”, “предсушествование логических категорий” до возникновения мира есть не более, как фантастический остаток веры в потустороннего творца; что тот вещественный, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещественного, телесного органа—мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт материи. Это, разумеется, чистый материализм. Но, дойдя до этого, Фейербах вдруг останавливается. Он не может преодолеть обычного философского предрассудка, предрассудка не против самого существа дела, а против слова “материализм”. Он говорит:
“Для меня материализм есть основа здания человеческой сущности и человеческого знания; но он для меня не то, чем он является для физиолога, для естествоиспытателя в тесном смысле, например для Молешотта, и чем он не может не быть для них сообразно их точке зрения и их специальности, то есть он для меня не само здание. Идя назад, я неликом с материалистами; идя вперед, я не с ними” 16.
Фейербах смешивает здесь материализм как общее мировоззрение, основанное на определенном понимании отношения материи и духа, с той особой формой, в которой выражалось это мировоззрение на определенной исторической ступени, именно в XVIII веке. Больше того, он смешивает его с той опошленной, вульгаризированной формой, в которой материализм XVIII века продолжает теперь существовать в головах естествоиспытателей и врачей и в которой его в 50-х годах преподносили странствующие проповедники Бюхнер, Фогт и Молешотт. Но материализм, подобно идеализму, прошел ряд ступеней развития. С каждым составляющим эпоху открытием даже в естественноисторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму. А с тех пор, как и истории было дано материалистическое объяснение, здесь также открывается новый путь для развития материализма.
Материализм прошлого века был преимущественно механическим, потому что из всех естественных наук к тому времени достигла известной законченности только механика, и именно только механика твердых тел (земных и небесных), короче—механика тяжести. Химия существовала еще в наивной форме, основанной на теории флогистона. Биология была еще в пеленках: растительный и животный организм был исследован лишь о самых грубых чертах, его объясняли чисто механическими причинами. В глазах материалистов XVIII века человек был машиной так же, как животное в глазах Декарта. Это применение исключительно масштаба механики к процессам химического и органического характера — в области которых механические законы хотя ч продолжают действовать, но отступают на задний план перед другими, более высокими законами,—составляет первую своеобразную, но неизбежную тогда ограниченность классического французского материализма.
Вторая своеобразная ограниченность этого материализма заключалась в неспособности его понять мир как процесс, как такую материю, которая находится в непрерывном историческом развитии. Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и связанному с ним метафизическому, то есть антидиалектическому, методу философского мышления. Природа находится в вечном движении; это знали и тогда. Но по тогдашнему представлению, это движение столь же вечно вращалось в одном и том же круге и таким образом оставалось, собственно, на том же месте: оно всегда приводило к одним и тем же последствиям. Такое представление было тогда неизбежно. Кантовская теория возникновения солнечной системы тогда только что появилась и казалась еще лишь простым курьезом. История развития Земли, геология, была еще совершенно неизвестна, а мысль о том, что нынешние живые существа являются результатом продолжительного развития от простого к сложному, вообще еще не могла тогда быть выдвинута наукой. Не-исторический взгляд на природу был, следовательно, неизбежен. И этот недостаток тем меньше можно поставить в вину философам XVIII века, что его не чужд даже Гегель. У Гегеля природа, как простое “отчуждение” идеи, не способна к развитию во времени; она может лишь развертывать свое многообразие в пространстве, и, таким образом, осужденная на вечное повторение одних и тех же процессов, она выставляет одновременно и одну рядом с другой все заключающиеся в ней ступени развития. И эту бессмыслицу развития в пространстве, но вне времени,— которое является основным условием всякого развития,— Гегель навязывал природе как раз в то время, когда уже достаточно были разработаны и геология, и эмбриология, и физиология растений и животных, и органическая химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду зарождались гениальные догадки, предвосхищавшие позднейшую теорию развития (например, Гёте и Ламарк). Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить самому себе.
В области истории—то же отсутствие исторического взгляда на вещи. Здесь приковывала взор борьба с остатками средневековья. На средние века смотрели как на простой перерыв в ходе истории, вызванный тысячелетним всеобщим варварством. Никто не обращал внимания на большие успехи, сделанные в течение средних веков: расширение культурной области Европы, образование там в соседстве Друг с другом великих жизнеспособных наций, наконец, огромные .технические успехи XIV и XV веков. А тем самым становился невозможным правильный взгляд на великую историческую связь, и история в лучшем случае являлась готовым к услугам философов сборником примеров и иллюстраций.
Вульгаризаторы, взявшие на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков материализма, не вышли ни в чем за эти пределы учений своих учителей. Все дальнейшие успехи естественных наук служили им лишь новыми доводами против существования творца вселенной. Да они и не помышляли о том, чтобы развивать дальше теорию. Идеализм, премудрость которого к тому времени уже окончательно истощилась и который был смертельно ранен революцией 1848 г., получил, таким образом, удовлетворение в том, что материализм в. это время пал еще ниже. Фейербах был совершенно прав, отклоняя от себя всякую ответственность за этот материализм; он только не имел права смешивать учение странствующих проповедников с материализмом вообще.
Впрочем, здесь надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, и при жизни Фейербаха естествознание находилось в том процессе сильнейшего брожения, который получил относительное, вносящее ясность завершение только за последние пятнадцать лет. Собрана была небывалая до сих пор масса нового материала для познания, но лишь в самое последнее время стало возможно установить связь, а стало быть, и порядок в этом хаосе стремительно нагромождавшихся открытий. Правда, Фейербах был современником трех важнейших открытий—открытия клетки, учения о превращении энергии и теории развитая, названной по имени Дарвина. Но мог ли пребывавший в деревенском уединении философ в достаточной степени следить за наукой, чтобы в полной мере оценить такие открытия, которые тогда сами естествоиспытатели отчасти еще оспаривали, отчасти же не умели надлежащим образом использовать? Виноваты тут единственно жалкие немецкие порядки, благодаря которым философские кафедры замещались исключительно мудрствующими эклектическими крохоборами, между тем как Фейербах, бесконечно превосходивший всех их, вынужден был окрестьяниваться и прозябать в деревенском захолустье. Не Фейербах, следовательно, виноват в том, что ставший теперь возможным исторический взгляд на природу, устраняющий все односторонности французского материализма, остался для него недоступным.
Во-вторых, Фейербах был совершенно прав, когда говорил, что исключительно естественнонаучный материализм “составляет основу здания человеческого знания, но еще не самое здание”. Ибо мы живем не только в природе, но и в человеческом обществе, которое не в меньшей мере, чем природа, имеет свою историю развития и свою науку. Задача, следовательно, состояла в том, чтобы согласовать науку об обществе, то есть всю совокупность так называемых исторических и философских.. наук, с материалистическим основанием и перестроить ее соответственно этому основанию. Но Фейербаху не суждено было сделать это. Здесь он, несмотря на “основу”, еще не .освободился от старых идеалистических пут, что признавал он сам, говоря: “Идя назад, я с материалистами; идя вперед, я не с ними”. Но именно здесь, в области общественной, сам Фейербах “вперед”, дальше своей точки зрения 1840 или 1844 г., и не пошел, и опять-таки главным образом вследствие своего отшельничества, в силу которого он, по своим наклонностям гораздо больше всех других философов нуждавшийся в обществе, вынужден был разрабатывать свои мысли в полном уединении, а не в дружеских или враждебных встречах с другими людьми своего калибра. Ниже мы подробнее рассмотрим, в какой большой степени он оставался идеалистом в указанной области.
Заметим еще, что Штарке видит идеализм Фейербаха не в том, в чем он действительно заключается.
“Фейербах — идеалист; он верит в прогресс человечества” (стр. 19). “Основой, фундаментом всего остается все-таки идеализм. Реализм только предохраняет нас от заблуждений в то время, когда мы следуе м своим идеальным стремлениям. Разве сострадание, любовь и служение истине и нраву не идеальные силы?” (стр. VIII).
Во-первых, здесь идеализмом называется не что иное, как стремление к идеальным целям. Но эти цели необходимым образом связаны разве только с кантовским идеализмом и его “категорическим императивом”. Однако даже Кант назвал свою философию “трансцендентальным идеализмом” вовсе не потому, что в iae речь идет и о нравственных идеалах, а по совершенно другим причинам, небезызвестным, конечно, Штарке. Предрассудок относительно того, что вера в нравственные, то есть общественные, идеалы составляет будто бы сущность философского идеализма, возник вне философии, у немецкого филистера, который подбирал потребные ему крохи философского образования в стихотворениях Шиллера. И никто не критиковал более резко бессильный кантовский “категорический императив” (бессильный потому, что требует невозможного, следовательно, никогда не приходит ни к чему действительному), никто не осмеивал более жестоко насажденную Шиллером филистерскую наклонность помечтать о неосуществимых идеалах (см., например, “феноменологию”17),—чем это де-лал законченный идеалист Гегель.
Во-вторых, никак не избегнуть того обстоятельства, что все, что побуждает человека к. деятельности, должно проходить через его голову: даже за еду и питье человек принимается вследствие того, что в его голове отражаются ощущения голода и жажды, а перестает есть и пить вследствие того, что в его голове отражается ощущение сытости. Воздействия внешнего мира на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом— в виде “идеальных стремлений”, и в этом виде они становятся “идеальными силами”. И если данного человека делает идеалистом только то обстоятельство, что он “следует идеальным стремлениям” и что он признает влияние на него “идеальных сил”, то всякий мало-мальски нормально развитой человек—идеалист от природы, и непонятным остается одно: как вообще могут быть на свете материалисты?
В-третьих, убеждение в том, что человечество, по крайней мере в данное время, двигается в общем и целом вперед, не имеет абсолютно ничего общего с противоположностью материализма и идеализма. Французские материалисты почти фанатически держались этого убеждения—не меньше деистов18 Вольтера и Руссо— и довольно часто приносили ему величайшие личные жертвы. Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь “служению истине и праву” — в хорошем смысле этих слов,—то таким человеком был, например, Дидро. И когда Штарке объявляет все это идеализмом, он доказывает только то, что слово материализм, а с ним вместе и вся противоположность обоих направлений утратили здесь o него всякий смысл.
Фактически Штарке здесь делает,—хотя, может быть, и бессознательно,—непростительную уступку укоренившемуся под влиянием долголетней поповской клеветы филистерскому предрассудку против названия материализм. Под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщеславие, корыстолюбие, скупость, алчность, погоню за барышом e биржевые плутни, короче—все те грязные пороки, которым oi nai предается втайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще веру в “лучший ie?”, о котором он кричит перед другими, но в который он сам начинает веровать разве только тогда, когда у него голова болит с похмелья или когда он обанкротился, словом—когда ему приходится переживать неизбежные последствия своих обычных “материалистических” излишеств. При этом он тянет свою любимую песню: Что же такое человек? Он — полузверь и полуангел.
В остальном же Штарке усердно старается защитить Фейербаха от нападений и учении тех доцентов, которые шумят теперь в Германии под именем философов. Для люден, интересующихся выродившимся потомством классической немецкой философии, это, конечно, важно; для самого Штарке это могло казаться необходимым. Но мы пощадим читателя.
III
Действительный идеализм Фейербаха выступает наружу тотчас же, как мы подходим к его философии религии и этике. Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет усовершенствовать ее. Сама философия должна раствориться в религии.
“Периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии. Данное историческое движение только тогда достигает своей основы, когда оно глубоко проникает в сердце человека. Сердце — не форма религии, так что нельзя сказать, что религии должна быть также и в сердце; оно—сущность религии”19 (цитировано у Штарке, стр. 168).
По учению Фейербаха, религия есть основанное на чувстве, сердечное отношение между человеком и человеком, которое до сих пор искало свою истину в фантастическом отражении действительности,—при посредстве одного или многих богов, этих фантастических отражений человеческих свойств,—а теперь непосредственно и прямо находит ее в любви между “я” и “ты”. И таким образом, у Фейербаха, в конце концов, половая любовь становится одной из самых высших, если но самой высшей формой исповедания его новой религии.
Основанные на чувстве отношения между людьми, особенно же между людьми разного пола, существовали с тех самых пор, как существуют люди. Что касается половой любви, то она в течение последних восьми столетий приобрела такое значение и завоевала такое место, что стала обязательной осью, вокруг которой вращается вся поэзия. Существующие позитивные религии ограничиваются тем, что дают высшее освящение государственному регулированию половой любви, то есть законодательству о браке; они могут псе хоть завтра совершенно исчезнуть, а в практике любви и дружбы не произойдет ни малейшего изменения. Во Франции между 1793 и 1798 гг. христианская религия действительно исчезла до такой степени, что самому Наполеону не без сопротивления и не без труда удалось ввести ее снова. Однако в течение этого времени не возникло никакой потребности заменить ее чем-нибудь вроде iiaie религии Фейербаха.
Идеализм Фейербаха состоит здесь в том, что он все основанные на взаимной склонности отношения людей — половую любовь, дружбу, сострадание, самопожертвование и т. д.—не берет просто-напросто в том значении, какое они имеют сами по себе, вне зависимости от воспоминаний о какой-нибудь особой религии, которая и по его мнению принадлежит прошлому. Он утверждает, что полное свое значение эти отношения получат только тогда, когда их освятят словом религия. Главное для него не в том, что такие чисто человеческие отношения существуют. а в том, чтобы их рассматривали как новую, истинную религию. Он соглашается признать их полноценными только в том случае, если к ним будет приложена печать религии. Слово религия происходит от reiigare5) и его первоначальное значение—связь. Следовательно, всякая взаимная связь двух людей есть религия. Подобные этимологические фокусы представляют собой последнюю лазейку идеалистической философии. Словам приписывается не то значение, какое они получили путем исторического развития их действительного употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своего происхождения. Только для того, чтобы не исчезло из языка дорогое для идеалистических воспоми-наний слово религия, в сан “религии” возводятся поло-вая любовь и отношения между полами. Совершенно так же рассуждали в сороковых годах парижские реформисты направления Луи Блана, которым тоже человек без религии представлялся каким-то чудовищем и которые говорили нам: Done, I'atheisme c'est votre religion! 6) Стремление Фейербаха построить истинную религию на основе материалистического по сути дела понимания природы можно уподобить попытке толковать современную химию как истинную алхимию. Если возможна религия без бога, то возможна и алхимия без своего философского камня. К тому же существует очень тесная связь между алхимией и религией. Философский камень обладает многими богоподобными свойствами, и египет-ско-греческие алхимики первых двух столетий нашего летосчисления тоже приложили свою руку при выработке христианского учения, как это показывают данные, приводимые Коппом и Бертло.
Совершенно неверным является утверждение Фейербаха, что “периоды человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии”. Великие исторические повороты сопровождались переменами в религии лишь поскольку речь идет о трех доныне существовавших мировых религиях: буддизме, христианстве, исламе. Старые стихийно возникшие племенные и национальные религии не имели пропагандистского характера и лишались всякой силы сопротивления, как только бывала сломлена независимость данных племен или народов. У германцев для этого достаточно было даже простого соприкосновения с разлагавшейся римской мировой империей и с ее христианской мировой религией, тогда только что принятой Римом и соответствовавшей его экономическому, политическому и духовному состоянию. Только по поводу этих, более или менее искусственно возникших мировых религий, особенно по поводу христианства и ислама, можно сказать, что общие исторические движения принимают религиозную окраску. Но даже в сфере распространения христианства революции, имевшие действительно универсальное значение, принимают эту окраску лишь на первых ступенях борьбы буржуазии за свое освобождение, от XIII до XVII века включительно. И это объясняется не свойствами человеческого сердца и не религиозной потребностью человека, как думает Фейербах, но всей предыдущей историей средних веков, знавших только одну форму идеологии: религию и теологию. Но когда в XVIII веке буржуазия достаточно окрепла для того, чтобы создать свою собственную идеологию, соответствующую ее классовому положению, она совершила свою великую и законченную революцию— французскую, апеллируя исключительно к юридическим политическим идеям и думая о религии лишь постольку, поскольку эта последняя преграждала ей дорогу. Но при этом ей и в голову не приходило, что надо заменить старую религию какой-то новой. Известно, какую неудачу потерпел здесь Робеспьер.
В обществе, в котором мы вынуждены жить теперь и которое основано на противоположности классов и на классовом господстве, возможность проявления чисто человеческих чувств в отношениях к другим людям и без того достаточно жалка; у пас нет ни малейшего основания делать ее еще более жалкой, возводя эти чувства в сан религии. Точно так же ходячая историография уже достаточно затемнила нам, особенно в Германии, понимание великих исторических классовых битв, и нам нет надобности делать его совершенно невозможным, превращая историю этой борьбы в простой придаток истории церкви. Уже из этого видно, как далеко ушли мы теперь от Фейербаха. Теперь просто невозможно больше читать те “прекраснейшие места” его сочинений, в которых превозносится эта новая религия любви.
Фейербах серьезно исследует только одну религию — христианство, эту основанную на монотеизме мировую религию Запада. Он показывает, что христианский бог есть лишь фантастическое отражение человека. Но этот бог, в свою очередь, является продуктом длительного процесса абстрагирования, концентрированной квинтэссенцией множества прежних племенных и национальных богов. Соответственно этому и человек, отражением которого является этот бог, представляет собой не действительного человека, а подобную же квинтэссенцию множества действительных людей; это—абстрактный человек, то есть опять-таки только мысленный образ. И тот же самый Фейербах, который на каждой странице проповедует чувственность и погружение в конкретный, действительный мир, становится крайне абстрактным, как только ему приходится говорить не только о половых, а о каких-либо других отношениях между людьми.
В этих отношениях он видит только одну сторону— мораль. И здесь нас опять поражает удивительная бедность Фейербаха в сравнении с Гегелем. У Гегеля этика, или учение о нравственности, есть философия права и охватывает:!) абстрактное право, 2) мораль, 3) нравственность, к которой, в свою очередь, относятся: семья, гражданское общество, государство. Насколько идеалистична здесь форма, настолько же реалистично содержание. Наряду с моралью оно заключает в себе всю область права, экономики и политики. У Фейербаха—как раз наоборот. По форме он реалистичен, за точку отправления он берет человека; но о мире, в котором живет этот человек, у него нет и речи, и потому его человек остается постоянно тем же абстрактным человеком, который фигурирует в философии религии. Этот человек появился на свет не из чрева матери: он, как бабочка из куколки, вылетел из бога монотеистических религий. Поэтому он и живет не в действительном, исторически развившемся и исторически определенном мире. Хотя он находится в общении с другими людьми, но каждый из них столь же абстрактен, как и он сам. В философии религии мы все-таки еще имели дело с мужчиной и женщиной, но в этике исчезает и это последнее различие. Правда, у Фейербаха попадаются изредка такие, например, положения:
“Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах” 20.— “Если у тебя от голода и по бедности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали”21.— “Политика должна стать нашей религией” 22 и т. д.
Но он совершенно не знает, что делать с этими положениями, они остаются у него голой фразой, и даже Штарке вынужден признать, что политика для Фейербаха недоступная область, а
“наука об обществе, социология,—terra incognita7)”23.
Столь же плоским является он по сравнению с Гегелем и там, где рассматривает противоположность между добром и злом.
“Некоторые думают,—замечает Гегель,—что они высказывают чрезвычайно глубокую мысль, говоря: человек по своей природе добр; но они забывают, что гораздо больше глубокомыслия в словах: человек по своей природе зол” 24.
У Гегеля зло есть форма, в которой проявляется движущая сила исторического развития. И в этом заключается двоякий смысл. С одной стороны, каждый новый шаг вперед необходимо является оскорблением какой-нибудь святыни, бунтом против старого, отживающего, но освященного привычкой порядка. С другой стороны, с тех пор как возникла противоположность классов, рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей: жадность и властолюбие. Непрерывным до-казательством этого служит, например, история феодализма и буржуазии. Но Фейербаху и в голову не приходит исследовать историческую роль морального зла. Историческая область для него вообще неудобна и неуютна. Даже его изречение:
“Когда человек только что вышел из лона природы, он тоже был лишь чисто природным существом, а не человеком. Человек,— эти продукт человека, культуры, истории” 25,—
даже это изречение остается у него совершенно бесплодным.
После всего сказанного понятно, что насчет морали Фейербах может сообщить нам лишь нечто чрезвычайно тощее. Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому оно должно быть основой всякой морали. Но стремление к счастью подвергается двоякой поправке. Во-первых, со стороны естественных последствий наших поступков: за опьянением следует похмелье, за вошедшим в привычку излишеством — болезнь. Во-вторых, со стороны их общественных последствий: если мы не уважаем в других того же стремления к счастью, они оказывают сопротивление и мешают нашему стремлению к счастью. Отсюда следует, что если мы хотим удовлетворить это свое стремление, мы должны уметь правильно оценивать последствия наших поступков и, кроме того, уважать равное право других на то же самое стремление. Разумное самоограничение в отношении самих себя и любовь—снова любовь!—в общении с другими—таковы, стало быть, основные правила фейербаховской морали, из которых выводятся все остальные. И ни остроумнейшие рассуждения Фейербаха, ни самые усиленные похвалы Штарке не в состоянии скрыть убожество и пустоту этих двух-трех положений.
Занимаясь самим собой, человек только в очень редких случаях, и отнюдь не с пользой для себя и для других, удовлетворяет свое стремление к счастью. Он должен иметь общение с внешним миром, средства для удовлетворения своих потребностей: пищу, индивида другого пола, книги, развлечения, споры, деятельность, предметы потребления и труда. Одно из двух: или фейербаховская мораль заранее предполагает, что все эти средства и предметы для удовлетворения потребностей несомненно имеются у каждого человека, или она даст только благие, но неприменимые советы, и тогда она не стоит выеденного яйца для людей, лишенных этих средств. И сам Фейербах прямо говорит об этом:
“Во дворцах мыслят иначе, чем и хижинах”. “Если у тебя от голода и по бедности нет питательных aauanoa a теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет пищи для морали”.
Лучше ли обстоит дело с равным правом всех людей на счастье? Фейербах выставляет это требование как безусловно обязательное со все времена н при всяких обстоятельствах. Но с каких пор оно признано всеми? Заходила ли когда-нибудь в древности между рабами и их владельцами или в средние века между крепостными крестьянами н их баронами речь о равном праве всех людей на счастье? Разве стремление угнетенных классов к счастью не приносилось безжалостно и “на законном основании” в жертву такому же стремлению господствующих классов?—Да, приносилось, но это было безнравственно; теперь же признано это равное право.— Признано на словах, с тех пор как буржуазия в борьбе против феодализма и ради развития капиталистического производства вынуждена была уничтожить все сословные, то есть личные, привилегии и ввести юридическое равноправие личности.сперва в области частного, а затем постепенно и в области государственного права. Но стремлению к счастью в наименьшей степени нужны идеальные права. Оно нуждается больше всего в материальных средствах; капиталистическое же производство заботится о том, чтобы огромное большинство равноправных лиц имело лишь самое необходимое для самой скудной жизни. Таким образом, капитализм вряд ли оказывает больше уважения равному нраву большинства на счастье, чем оказывало рабство или крепостничество И разве лучше обстоит дело с духовными средствами, обеспечивающими счастье, со средствами получения образования? Разве сам “школьный учитель, победивший при Садове”26 ,— не мифическая личность?
Более того. По фейербаховской теории морали выходит, что фондовая биржа есть храм высшей нравственности, если только там спекулируют с умом. Если мое стремление к счастью заводит меня на биржу и я там сумею настолько правильно взвесить последствия моих действий, что эти действия приносят мне только приятное" и никакого ущерба, то есть если я постоянно выигрываю, то предписание Фейербаха исполнено. И при этом я во все не стесняю моего ближнего в его таком же стремлении к счастью, ибо он пришел на биржу так же добровольно, как и я, а заключая со мной спекулятивную сделку, он совершенно так же следует своему стремлению к счастью, как я следую моему. А если он теряет сноп деньги, то этим доказывается безнравственность его действий, поскольку они были им плохо рассчитаны и, подвергая его заслуженному наказанию, я могу даже стать в гордую позу современного Радаманта. На бирже царствует также и любовь, поскольку она не просто сентиментальная фраза; ибо каждый удовлетворяет свое стремление и счастью при помощи другого, а именно это и должна делать любовь, в этом заключается ее практическое осуществление. Следовательно, если я правильно предвижу последствия своих операций, то есть если я играю с успехом, то я исполняю все строжайшие требования фейербаховской морали, а вдобавок еще и становлюсь богачом. Иначе говоря, каковы бы ни были желания и намерения Фейербаха, его мораль оказывается скроенной по мерке нынешнего капиталистического общества.
Но любовь!—Да, любовь везде и всегда является у Фейербаха чудотворцем, который должен выручать из всех трудностей практической жизни,—и это в обществе, разделенном на классы с диаметрально противоположными интересами! Таким образом из его философии улетучиваются последние остатки ее революционного характера и остается лишь старая песенка: любите друг друга, бросайтесь друг другу в объятия все, без различия пола и звания,— всеобщее примирительное опьянение!
Коротко говоря, с фейербаховской теорией морали случилось то же, что со всеми ее предшественницами. Она скроена для всех времен, для всех народов, для всех обстоятельств и именно потому не применима нигде и никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический императив Канта. В действительности каждый класс и даже каждая профессия имеют свою собственную мораль, которую они притом же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно. А любовь, которая должна бы все объединять, проявляется в войнах, ссорах, тяжбах, домашних сварах, разводах и в максимальной эксплуатации одних другими.
Но каким образом могло случиться, что для самого Фейербаха остался совершенно бесплодным тот могучий толчок, который он дал умственному движению? Просто потому, что Фейербах не нашел дороги из им самим смертельно ненавидимого царства абстракций в живой, действительный мир. Он изо всех сил хватается за природу и за человека. Но и природа и человек остаются у него только словами. Он не может сказать ничего определенного ни о действительной природе, ни о действительном человеке. Но чтобы перейти от фейербаховского абстрактного человека к действительным, живым людям, необходимо было изучать этих людей в их исторических действиях. А Фейербах упирался против этого, и потому не понятый им 1848 год означал для него только окончательный разрыв с действительным миром, переход к отшельничеству. Виноваты в этом главным образом все те же немецкие общественные отношения, которые привели его к такому жалкому концу.
Но шаг, которого не сделал Фейербах, все-таки надо было сделать. Надо было заменить культ абстрактного человека, это ядро новой религии Фейербаха, наукой о действительных людях и их историческом развитии. Это дальнейшее развитие фейербаховской точки зрения, выходящее за пределы философии Фейербаха, начато было в 1845 г. Марксом в книге “Святое семейство”.
IV
Штраус, Бауэр, Штирнер, Фейербах были отпрысками гегелевской философии, поскольку они не покидали философской почвы. После своей “Жизни Иисуса” и “Догматики”27 Штраус занимался только философской и историко-церковной беллетристикой а 1а Ренан. Бауэр сделал нечто значительное лишь в области истории возникновения христианства. Штирнер остался простым курьезом даже после того, как Бакунин перемешал его с Прудоном и окрестил эту смесь “анархизмом”. Один Фейербах был выдающимся философом. Но он не только не сумел перешагнуть за пределы философии, выдававшей себя за некую науку iaoe, парящую над всеми отдельными науками и связывающую их воедино,—эта философия оставалась в его глазах неприкосновенной святыней,— но даже как философ он остановился на полдороге, был материалист внизу, идеалист вверху. Он не одолел Гегеля оружием критики, а просто отбросил его в сторону как нечто негодное к употреблению; в то же время он сам не был в состоянии противопоставить энциклопедическому богатству гегелевской системы ничего положительного, кроме напыщенной религии любви и тощей, бессильной морали.
Но при разложении гегелевской школы образовалось еще иное направление, единственное, которое действительно принесло плоды. Это направление главным образом связано с именем Маркса 8).
Разрыв с философией Гегеля произошел и здесь путем возврата к материалистической точке зрения. Это значит, что люди этого направления решились понимать действительный мир—природу и историю—таким, каким он сам дается всякому, кто подходит к нему без предвзятых идеалистических выдумок; они решились без сожаления пожертвовать всякой идеалистической выдумкой, которая не соответствует фактам, взятым в их собственной, а не в какой-то фантастической связи. И ничего более материализм вообще не означает. Новое направление отличалось лишь тем, что здесь впервые действительно серьезно отнеслись к материалистическому мировоззрению, что оно было последовательно проведено—по крайней мере в основных чертах—во всех рассматриваемых областях знания.
Гегель не был просто отброшен в сторону. Наоборот, за исходную точку была взята указанная выше революционная сторона его философии, диалектический метод. Но этот метод в его гегелевской форме был непригоден. У Гегеля диалектика есть саморазвитие понятия. Абсолютное понятие не только существует—неизвестно где—от века, но и составляет истинную, живую душу всего существующего мира. Оно развивается по направлению к самому себе через все те предварительные ступени, которые подробно рассмотрены в “Логике” и которые все заключены в нем самом. Затем оно “отчуждает” себя, превращаясь в природу, где оно, не сознавая самого себя, приняв вид естественной необходимости, проделывает новое развитие, и в человеке, наконец, снова приходит к самосознанию. А в истории это самосознание опять выбивается из первозданного состояния, пока, наконец, абсолютное понятие не приходит опять полностью к самому себе в гегелевской философии. Обнаруживающееся в природе и в истории диалектическое развитие, то есть причинная связь того поступательного движения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные попятные шаги прокладывает себе путь от низшего к высшему,—это развитие является у Гегеля только отпечатком самодвижения понятия, вечно совершающегося неизвестно где, но во всяком случае совершенно независимо от всякого мыслящего человеческого мозга. Надо было устранить это идеологическое извращение. Вернувшись к материалистической точке зрения, мы снова увидели в человеческих понятиях отображения действительных вещей, вместо того чтобы в действительных вещах видеть отображения тех или иных ступеней абсолютного понятия. Диалектика сводилась этим к науке об общих законах движения как внешнего мира, так и человеческого мышления: два ряда законов, которые по сути дела тождественны, а по своему выражению различны лишь постольку, поскольку человеческая голова может применять их сознательно, между тем как в природе,— а до сих пор большей частью и в человеческой истории — они прокладывают себе путь бессознательно, в форме внешней необходимости, среди бесконечного ряда кажущихся случайностей. Таким образом, диалектика понятий сама становилась лишь сознательным отражением диалектического движения действительного мира. Вместе с этим гегелевская диалектика была перевернута, а лучше сказать—вновь поставлена на ноги, так как прежде она стояла на голове. И замечательно, что не одни мы открыли эту материалистическую диалектику, которая вот уже много лет является нашим лучшим орудием труда и нашим острейшим оружием; немецкий рабочий Иосиф Дицген вновь открыл ее независимо от нас и даже независимо от Гегеля 9).
Тем самым революционная сторона гегелевской философии была восстановлена и одновременно освобождена от тех идеалистических оболочек, которые у Гегеля затрудняли ее последовательное проведение. Великая основная мысль,—что мир состоит не из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия, находятся в беспрерывном изменении, то возникают, то уничтожаются, причем поступательное развитие, при всей кажущейся случайности и вопреки временным отливам, в конечном счете прокладывает себе путь,—эта великая основная мысль со времени Гегеля до такой степени вошла в общее сознание, что едва ли кто-нибудь станет оспаривать ее в ее общем виде. Но одно дело признавать ее на словах, другое дело — применять ее в каждом отдельном случае и в каждой данной области исследования. Если же мы при исследовании постоянно исходим из этой точки зрения, то для нас раз навсегда утрачивает всякий смысл требование окончательных решений и вечных истин; мы никогда не забываем, что все приобретаемые нами знания по необходимости ограничены и обусловлены теми обстоятельствами, при которых мы их приобретаем. Вместе с тем нам уже не могут больше внушать почтение такие непреодолимые для старой, но все еще весьма распространенной метафизики противоположности, как противоположности истины и заблуждения, добра и зла, тождества и различия, необходимости и случайности. Мы знаем, что эти противоположности имеют лишь относительное значение: то, что ныне признается истиной, имеет свою ошибочную сторону, которая теперь скрыта, но со временем выступит наружу; и совершенно так же то, что признано теперь заблуждением, имеет истинную сторону, в силу которой оно прежде могло считаться истиной; то, что утверждается как необходимое, слагается из чистых случайностей, а то, что считается случайным, представляет собой форму, за которой скрывается необходимость, и т. д.
Старый метод исследования и мышления, который Aaгель называет “метафизическим”, который имел дело преимущественно с предметами как с чем-то законченным и неизменным и остатки которого до сих пор еще крепко синят в головах, имел в свое время великое историческое оправдание. Надо было исследовать предметы, прежде чем можно было приступить к исследованию процессов Надо сначала знать, что такое данный предмет, чтобы можно было заняться теми изменениями, которые с ним происходят. Так именно и обстояло дело a естественных науках. Старая метафизика, считавшая предметы законченными, выросла из такого естествознания, которое изучало предметы неживой и живой природы как нечто законченное. Когда же это изучение отдельных предметов подвинулось настолько далеко, что можно было сделать решительный шаг вперед, то есть перейти к систематическому исследованию тех изменении, которые происходят с этими предметами в самой природе, тогда и в философской области пробил смертный час старой метафизики. И в самом деле, если до конца прошлого столетня естествознание было преимущественно собирающей наукой, наукой о законченных предметах, то в нашем веке оно стало в сущности упорядочивающей наукой, наукой о процессах, о происхождении и развитии этих предметов и о связи, соединяющей эти процессы природы в одно великое целое. Физиология, которая исследует процессы в растительном и животном организме; эмбриология, изучающая развитие отдельного организма от зародышевого состояния до зрелости; геология, изучающая постепенное образование земной коры,—все эти науки суть детища нашего века.
Познание взаимной связи процессов, совершающихся в природе, двинулось гигантскими шагами вперед особенно благодаря трем великим открытиям:
Во-первых, благодаря открытию клетки как той единицы, из размножения и дифференциации которой развивается все тело растения и животного. Это открытие не только убедило пас, что развитие и рост всех высших организмов совершаются но одному общему закону, но, показав способность клеток к изменению, оно наметило также путь, ведущий к видовым изменениям организмов, изменениям, вследствие которых организмы могут совер-шать процесс развития, представляющий собой нечто большее, чем развитие только индивидуальное.
Во-вторых, благодаря открытию превращения энергии, показавшему, что все так называемые силы, действующие прежде всего в неорганической природе,— механическая сила и ее дополнение, так называемая потенциальная энергия, теплота, излучение (свет, resp. 10) лучистая теплота), электричество, магнетизм, химическая энергия,—представляют собой различные формы проявления универсального движения, которые переходят одна в другую в определенных количественных отношениях, так что, когда исчезает некоторое количество одной, на ее место появляется определенное количество другой. и все движение в природе сводится к этому непрерывному процессу превращения из одной формы в другую.
Наконец, в-третьих, благодаря впервые в общей связи представленному Дарвином доказательству того, что все окружающие нас теперь организмы, не исключая и человека, возникли в результате длительного процесса развития из немногих первоначально одноклеточных зародышей, а эти зародыши, в свою очередь, образовались из возникшей химическим путем протоплазмы, или белка.
Благодаря этим трем великим открытиям и прочим громадным успехам естествознания, мы можем теперь в общем и целом обнаружить не только ту связь, которая существует между процессами природы в отдельных ее областях, но также и ту, которая имеется между этими отдельными областями. Таким образом, с помощью фактов доставленных самим эмпирическим естествознанием, можно в довольно систематической форме дать общую картину природы как связного целого. Дать такого рода общую картину природы было прежде задачей так называемой натурфилософии, которая могла это делать только таким образом, что заменяла неизвестные еще ей действительные связи явлений идеальными, фантастическими связями и замещала недостающие факты вымыслами, пополняя действительные пробелы лишь в воображении. При этом ею были высказаны многие гениальные мысли и предугаданы многие позднейшие открытия, но не мало также было наговорено и вздора. Иначе тогда и быть не могло. Теперь же, когда нам достаточно взглянуть на результаты изучения природы диалектически, то есть с точки зрения их собственной связи, чтобы составить удовлетворительную для нашего времени “систему природы” и когда сознание диалектического характера этой связи проникает даже в метафизически вышколенные головы естествоиспытателей вопреки их воле,—теперь натурфилософии пришел конец. Всякая попытка воскресить ее не только была бы излишней, а была бы шагом назад.
Но то, что применимо к природе, которую мы понимаем теперь как исторический процесс развития, применимо также ко всем отраслям истории общества и ко всей совокупности наук, занимающихся вещами человеческими (и божественными). Подобно натурфилософии, философия истории, права, религии и т. д. состояла в том, что место действительной связи, которую следует обнаруживать в событиях, занимала связь, измышленная философами; "то на историю,— и в ее целом и в отдельных частях,—смотрели как на постепенное осуществление идей, и притом, разумеется, всегда только любимых идей каждого данного философа. Таким образом выходило, что история бессознательно, но необходимо работала на осуществление известной, заранее поставленной идеальной цели; у Гегеля, например, такой целью являлось осуществление его абсолютной идеи, и неуклонное стремление к этой абсолютной идее составляло, по его мнению, внутреннюю связь в исторических событиях. На место действительной, еще не известной связи ставилось, таким образом, какое-то новое, бессознательное или постепенно достигающее сознания таинственное провидение. Здесь надо было, значит, совершенно так же, как и в области природы, устранить эти вымышленные, искусственные связи, открыв связи действительные. А эта задача в конечном счете сводилась к открытию тех общих законов движения, которые в качестве господствующих прокладывают себе путь в истории человеческого общества.
Но история развития общества в одном пункте существенно отличается от истории развития природы. В природе (поскольку мы оставляем в стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются общие законы. Здесь нигде нет сознательной, желаемой цели: ни в бесчисленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, ни в окончательных результатах, подтверждающих наличие закономерности внутри этих случайностей. Наоборот, в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели. Но как ни важно эго различие для исторического исследования,—особенно отдельных эпох и событий,—оно нисколько не изменяет того факта, что ход истории подчиняется внутренним общим законам. В самом деле, и в этой области на поверхности явлений, несмотря на сознательно желаемые цели каждого отдельного человека, царствует, в общем и целом, по-видимому, случай. Желаемое совершается лишь в редких случаях; по большей же части цели, поставленные людьми перед собой, приходят во взаимные столкновения и противоречия или оказываются недостижимыми частью по самому своему существу, частью по недостатку средств для их осуществления. Столкновения бесчисленных отдельных стремлении и отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно аналогичному тому, которое господствует в лишенной сознания природе. Действия имеют известную желаемую цель; но результаты, на деле вытекающие из этих действий, вовсе нежелательны. А если вначале они, по-видимому, и соответствуют желаемой цели, то в конце концов они ведут совсем не к тем последствиям, которые были желательны. Таким образом, получается, что в общем и целом случайность господствует также и в области исторических явлений. Но где на поверхности происходит игра случая, там сама эта случайность всегда оказывается подчиненной внутренним, скрытым законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти законы.
Каков бы ни был ход истории, люди делают ее так: каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений и их разнообразных воздействий на внешний мир—это именно и есть история. Вопрос сводится, стало быть, также к тому, чего хочет это множество отдельных лиц. Воля определяется страстью или размышлением. Но те рычаги, которыми, в свою очередь, непосредственно определяются страсть или размышление, бывают самого разнообразного характера. Отчасти это могут быть внешние предметы, отчасти—идеальные побуждения: честолюбие, “служение истине и праву”, личная ненависть или даже чисто индивидуальные прихоти всякого рода. Но, с одной стороны мы уже видели, что действующие в истории мно-гочисленные отдельные стремления в большинстве случаев вызывают не те последствия, которые были желательны, а совсем другие, часто прямо противоположные тому, что имелось в виду, так что и эти побуждения, следовательно, имеют по отношению к конечному результату лишь подчиненное значение. А с другой стороны, возникает новый вопрос: какие движущие силы скрываются, в свою очередь, за этими побуждениями, каковы те исторические причины, которые в головах действующих людей принимают форму данных побуждений?
Старый материализм никогда не задавался таким вопросом. Взгляд его на историю—поскольку он вообще имел такой взгляд—был поэтому по существу прагматический: он судил обо всем по мотивам действий, делил исторических деятелей на честных и бесчестных и находил, что честные, как правило, оказывались в дураках, а бесчестные торжествовали. Из этого обстоятельства для него вытекал тот вывод, что изучение истории дает очень мало назидательного, а для нас вытекает тот вывод, что в исторической области старый материализм изменяет самому себе, считая действующие там идеальные побудительные силы последними причинами событий, вместо того чтобы исследовать, что за ними кроется, каковы побудительные силы этих побудительных сил. Непоследовательность заключается не в том, что признается существование идеальных побудительных сил, а в том, что останавливаются на них, не идут дальше, к их движущим причинам. Напротив, философия истории, особенно в лице Гегеля, признавала, что как выставленные напоказ, так и действительные побуждения исторических деятелей вовсе не представляют собой конечных причин исторических событий, что за этими побуждениями стоят другие движущие силы, которые и надо изучать. Но философия истории искала эти силы не в самой истории; напротив, она привносила их туда извне, из философской идеологии. Так, например, вместо того чтобы объяснять историю Древней Греции из ее собственной внутренней связи, Гегель просто-напросто объявляет, что эта история есть не что иное, как выработка “форм прекрасной индивидуальности”, осуществление “художественного произведения” как такового29. При этом он делает много прекрасных и глубоких замечании о древних греках, но тем не менее нас в настоящее время уже не удовлетворяют подобные объяснения, представляющие собой одни только фразы.
Когда, стало быть, речь заходит об исследовании движущих сил, стоящих за побуждениями исторических деятелей,—осознано ли это или, как бывает очень часто, не осознано,— и образующих в конечном счете подлинные движущие силы истории, то надо иметь в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самых выдающихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие массы людей, целые пароды, а в каждом данном народе, в свою очередь, целые классы. Да и здесь важны не кратковременные взрывы, не скоропреходящие вспышки, а продолжительные действия, приводящие к великим историческим переменам. Исследовать движущие причины, которые ясно или неясно, непосредственно или в идеологической, может быть, даже в фантастической форме отражаются в виде сознательных побуждений в головах действующих масс и их вождей, так называемых великих люден,—это единственный путь, ведущий к познанию законов, господствующих в истории вообще и в ее отдельные периоды или в отдельных странах. Все, что приводит людей в движение, должно пройти через их голову; но какой вид принимает оно в этой голове, в очень большой мере зависит от обстоятельств. Рабочие не разрушают теперь машин, как они делали это еще в 1848 г. на Рейне, но это вовсе не значит, что они примирились с капиталистическим применением машин.
Но если во все предшествующие периоды исследование этих движущих причин истории было почти невозможно из-за того, что связи этих причин с их следствиями были запутаны и скрыты, то в наше время связи эти до такой степени упростились, что решение загадки стало, наконец, возможным. Со времени введения крупной промышленности, то есть по крайней мере со времени европейского мира 1815 г., в Англии ни для кого уже не было тайной, что центром всей политической борьбы в этой стране являлись стремления к господству двух классов: землевладельческой аристократии (landed aristocracy), с одной стороны, и буржуазии (middle class) —с другой. Во Франции тот же самый факт дошел до сознания вместе с возвращением Бурбонов. Историки периода Реставрации, от Тьерри до Гизо, Минье и Тьера, постоянно указывают на него как на ключ к пониманию французской истории, начиная со средних веков. А с 1830 г. в обеих этих странах рабочий класс, пролетариат, признан был третьим борцом за господство. Отношения так упростились, что только люди, умышленно закрывавшие глаза, могли не видеть, что в борьбе этих трех больших классов и в столкновениях их интересов заключается движущая сила всей новейшей истории, по крайней мере в указанных двух самых передовых странах.
Но как возникли эти классы? Если на первый взгляд происхождение крупного, некогда феодального землевладения могло еще быть приписано, по крайней мере в первую очередь, политическим причинам, насильственному захвату, то по отношению к буржуазии и пролетариату это было уже немыслимо. Слишком очевидно было, что происхождение и развитие этих двух больших классов определялось чисто экономическими причинами. И столь же очевидно было, что борьба между крупными землевладельцами и буржуазией, так же, как и борьба между буржуазией и пролетариатом, велась прежде всего ради экономических интересов, для осуществления которых политическая власть должна была служить всего лишь средством. Как буржуазия, так и пролетариат возникли вследствие перемен в экономических отношениях, точнее говоря—в способе производства. Оба эти класса развились благодаря переходу сначала от цехового ремесла к мануфактуре, а затем от мануфактуры к крупной промышленности, вооруженной паром и машинами. На известной ступени развития, пущенные в ход буржуазией новые производительные силы — прежде всего разделение труда и соединение в одном общем мануфактурном предприятии многих частичных рабочих—и развившиеся благодаря им условия и потребности обмена стали несовместимыми с существующим, исторически унаследованным и освященным законом строем производства, то есть с цеховыми и бесчисленными прочими личными и местными привилегиями (которые для непривилегированных сословий были столь же бесчисленными оковами), свойственными феодальному общественному строю. В лице своей представительницы, буржуазии, производительные силы восстали против строя производства, представленного феодальными землевладельцами и цеховыми мастерами. Исход борьбы известен. Феодальные оковы были разбиты: в Англии постепенно, во Франции одним ударом, в Германии с ними все еще не разделались. Но подобно тому как мануфактура на известной ступени своего развития вступила в конфликт с феодальным строем производства, так и крупная промышленность оказалась теперь уже a конфликте с пришедшим ему на смену буржуазным строем. Связанная этим строем, скованная узкими рамками капиталистического способа производства, она, с одной стороны, ведет к непрерывно растущей пролетаризации всей огромной массы народа, а с другой --создает все увеличивающуюся массу продуктов, не находящих сбыта. Перепроизводство и массовая нищета --одно является причиной другого—таково то нелепое противоречие, к которому приходит крупная промышленность и которое с необходимостью требует избавления производительных сил от их нынешних оков посредством изменения способа производства.
Таким образом, по крайней мере для новейшей истории, доказано, что всякая политическая борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое освобождение, невзирая па ее неизбежно политическую форму,—ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая,— ведется, в конечном счете, из-за освобождения экономического. Итак, несомненно, что, по крайней мере в новейшей истории, государство, политический строй, является подчиненным, а гражданское общество, царство экономических отношении,—решающим элементом. По старому взгляду на государство, разделявшемуся и Гегелем, оно считалось, наоборот, определяющим, а гражданское общество—определяемым элементом. Видимость этому соответствует. Подобно тому как у отдельного человека, для того чтобы он стал действовать, все побудительные силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его голову, должны превратиться в побуждения его волн, точно так же и все потреб-ности гражданского общества—независимо от того, какой класс в данное время господствует,— неизбежно проходят через волю государства, чтобы в форме законов получить всеобщее значение. Это—формальная сторона дела. которая сама собой разумеется. Но, спрашивается, каково же содержание этой только формальной воли,— все равно, отдельного лица или целого государства,—откуда это содержание берется н почему желают именно этого, а не чего-либо другого? Ища ответа на этот вопрос, мы находим, что в новейшей истории государственная воля определяется в общем и целом изменяющимися потребностями гражданского общества, господством того или другого класса, а в последнем счете—развитием производительных сил и отношении обмена.
Но если даже в наше новейшее время с его гигантскими средствами производства и сообщения государство не составляет самостоятельной области и не развивается самостоятельно, а и в существовании своем и в своем развитии зависит, в конечном счете, от экономических условий жизни общества, то тем более это имеет силу по отношению ко всем прежним временам, когда еще не было таких богатых средств производства материальной жизни люден и когда, следовательно, необходимость этого производства неизбежно должна была в еще большей степени господствовать над людьми. Если даже теперь, в эпоху крупной промышленности и железных дорог, государство в целом является лишь выражением, в концентрированной форме, экономических потребностей класса, господствующего в производстве, то еще неизбежнее была такая его роль в ту эпоху, когда всякое данное поколение людей должно было тратить гораздо большую часть приходящегося на его жизнь времени для удовлетворения своих материальных потребностей и когда оно, стало быть, зависело от них гораздо больше, чем зависим мы теперь. Изучение истории прежних эпох убедительнейшим образом подтверждает это, как только оно обращает серьезное внимание на эту сторону дела. Но, разумеется, здесь мы не можем пускаться в подобное исследование.
Если государство и государственное право определяются экономическими отношениями, то само собой понятно, что теми же отношениями определяется и гражданское право, роль которого в сущности сводится к тому, что оно санкционирует существующие, при данных обстоятельствах нормальные, экономические отношения между отдельными лицами. Но форма, в которой дается эта санкция, может быть очень различна. Можно, например, как это произошло в Англии в соответствии со всем ходом ее национального развития, сохранять значительную часть форм старого феодального права, вкладывая в них буржуазное содержание, и даже прямо подсовывать буржуазныи смысл под феодальное наименование. Но можно также—как это произошло в континентальной Западной Европе—взять за основу первое всемирное право общества товаропроизводителей, то есть римское право, с ею непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т. д.). При этом можно— на потребу еще мелкобуржуазного и полуфеодального общества — или просто судебной практикой низвести это право до уровня этого общества (общегерманское право), или же с помощью якобы просвещенных, морализирующих юристов переработать его в особый свод законов, который соответствовал бы указанному уровню развития общества и который при этих обстоятельствах будет плох также и в юридическом отношении (прусское право). Можно, наконец, после великой буржуазной революции создать на основе все того же римского права такой классический свод законов буржуазного общества, как французский Code civile11). Если, стало быть, нормы гражданского права представляют собой лишь юридическое выражение экономических условий общественной жизни, то они, смотря по обстоятельствам, могут выражать их иногда хорошо, а иногда и плохо.
В лице государства перед нами выступает первая идеологическая сила над человеком. Общество создает себе орган для защиты своих общих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу и тем более успевает в этом чем более он становится органом одного определенного класса и чем более явно он осуществляет господство этого класса. Борьба угнетенного класса против господствующего неизбежно становится политической борьбой, борьбой прежде всего против политического господства этого класса. Сознание связи этой политической борьбы с ее экономической основой ослабевает, а иногда и теряется совсем. Если же оно не совсем исчезает у самих участников борьбы, то почти всегда отсутствует у историков. Из древних историков, которые описывали борьбу, происходившую в недрах Римской республики, только Аппиан говорит нам ясно и отчетливо, из-за чего она в конечном счете велась: из-за земельной собственности.
Но, став самостоятельной силой по отношению к обществу, государство немедленно порождает новую идеологию. У политиков по профессии, у теоретиков государственного права и у юристов, занимающихся гражданским правом, связь с экономическими фактами теряется окончательно. Поскольку в каждом отдельном случае экономические факты, чтобы получить санкцию в форме закона, должны принимать форму юридического мотива и поскольку при этом следует, разумеется, считаться со всей системой уже существующего права, постольку теперь кажется, что юридическая форма — это все, а экономическое содержание — ничто. Государственное и гражданское право рассматриваются как самостоятельные области, которые имеют свое независимое историческое развитие, которые сами по себе поддаются систематическому изложению и требуют такой систематизации путем последовательного искоренения всех внутренних противоречий.
Идеологии еще более высокого порядка, то есть еще более удаляющиеся от материальной экономической основы, принимают форму философии и религии. Здесь связь представлений с их материальными условиями существования все более запутывается, все более затемняется промежуточными звеньями. Но все-таки она существует. Как вся эпоха Возрождения, начиная с середины XV века, так и вновь пробудившаяся с тех пор философия была в сущности плодом развития городов, то есть бюргерства. Философия лишь по-своему выражала те мысли, которые соответствовали развитию мелкого и среднего бюргерства в крупную буржуазию. Это ясно выступает у англичан и французов прошлого века, которые часто были столько же экономистами, сколько и философами. Относительно гегелевской школы мы показали это выше.
Бросим, однако, беглый взгляд и на религию, которая всего дальше отстоит от материальной жизни и кажется наиболее чуждой ей. Религия возникла в самые первобытные времена из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе. Но. раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке. Иначе она не была бы идеологией, то есть не имела бы дела с мыслями как с самостоятельными сущностями, которые обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам. Тот факт, что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается этот мыслительный процесс, в конечном счете определяют собой его ход, остается неизбежно у этих людей неосознанным, ибо иначе пришел бы конец всей идеологии. Эти первоначальные религиозные представления, по большей части общие каждой данной родственной группе народов, после разделения таких групп развиваются у каждого народа своеобразно, соответственно выпавшим на его долю жизненным условиям. У одного ряда таких групп народов, именно v арийского (так называемого индоевропейского), процесс"этого развития подробно исследован сравнительной мифологией. Боги, созданные таким образом у каждого отдельного народа, были национальными богами, и их власть не переходила за границы охраняемой ими национальной области, по ту сторону которых безраздельно правили другие боги. Все эти боги жили в представлении людей лишь до тех пор, пока существовала создавшая их нация, и падали вместе с ее гибелью. Старые национальности погибли под ударами римской мировой империи, экономических условии возникновения которой мы не можем здесь рассматривать. Старые национальные боги пришли в упадок, этой участи не избежали даже римские боги, скроенные по узкой мерке города Рима. Потребность дополнить мировую империю мировой религией ясно обнаруживается в попытках ввести в Риме поклонение, наряду с местными, всем сколько-нибудь почтенным чужеземным богам. Но подобным образом, императорскими декретами, нельзя создать новую мировую религию. Новая мировая религия, христианство, уже возникла в тиши из смеси обобщенной восточной', в особенности еврейской, теологии и вульгаризированной греческой, в особенности стоической, фило-софии. Лишь путем кропотливого исследования можем мы узнать теперь, каков был первоначальный вид христианства, потому что оно перешло к нам уже в том официальном виде, какой придал ему Никейский собор приспособивший его к роли государственной религии30. Но во всяком случае, гот факт, что уже через 250 лет оно стало государственной религией, достаточно показывает, до какой степени соответствовало оно обстоятельствам того времени. В средние века, в той же самой мере, в какой развивался феодализм, oристианство принимало вид соответствующей ему религии с соответствующей феодальной иерархией. А когда окрепло бюргерство, в противоположность феодальному католицизму развилась протестантская ересь, сначала у альбигойцев в Южной Франции в эпоху высшего расцвета ее городов31. Средние века присоединили к теологии и превратили в ее подразделения все прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию. Вследствие этого всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую форму. Чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. И подобно тому как бюргерство с самого начала создало себе придаток в виде не принадлежавших ни к какому определенному сословию неимущих городских плебеев, поденщиков и всякого рода прислуги — предшественников позднейшего пролетариата,—так и религиозная ересь уже очень рано разделилась на два вида: бюргерско-умеренный и плебейски-революционный, ненавистный даже и бюргерским еретикам.
Неистребимость протестантской ереси соответствовала непобедимости поднимавшегося бюргерства. Когда это бюргерство достаточно окрепло, его борьба с феодальным дворянством, имевшая до тех пор по преимуществу местный характер, начала принимать национальные масштабы. Первое крупное выступление произошло в Германии—так называемая Реформация. Бюргерство не было еще достаточно сильно и развито, чтобы объединить под своим знаменем все прочие мятежные сословия—плебеев в городах, низшее дворянство и крестьян в деревне. Прежде всех потерпело поражение дворянство;'поднялось крестьянское восстание, представляющее собой высшую точку всего этого революционного движения. Но города не поддержали крестьян, и революция была подавлена войсками владетельных князей, которые и воспользовались всеми ее выгодными последствиями. С тех пор на целых три столетия Германия исчезает из числа стран, самостоятельно и активно действующих в истории. Но наряду с немцем Лютером выступил француз Кальвин. С чисто французской остротой выдвинул он па первый план буржуазный характер реформации, придав церкви республиканский, демократический вид. Между тем как лютеранская реформация в Германии вырождалась н вела страну к гибели, кальвинистская реформация послужила знаменем республиканцам в Женеве, в Голландии н в Шотландии, освободила Голландию от владычества Испании и Германской империи н доставила идеологический костюм для второго акта буржуазной революции, происходившего в Англии. Здесь кальвинизм явился подлинной религиозной маскировкой интересов тогдашней буржуазии, поэтому он и не добился полного признания после революции 1689 г., окончившейся компромиссом между частью дворянства и буржуазией32. Восстановлена была английская государственная церковь, но уже не в прежнем своем виде, не в виде католицизма с королем, играющим роль папы: теперь она была сильно окрашена кальвинизмом. Старая государственная церковь праздновала веселое католическое воскресенье и преследовала скучное воскресенье кальвинистов. Новая, проникнутая буржуазным духом, ввела именно это последнее, еще и поныне украшающее Англию.
Во Франции в 1685 г. кальвинистское меньшинство было подавлено, обращено в католичество или изгнано33. Но к чему это повело? Уже тогда свободомыслящий Пьер Бейль был в расцвете своей деятельности, а в 1694 г. родился Вольтер. Насильственные меры Людовика XIV только облегчили французской буржуазии возможность осуществить свою революцию в нерелигиозной, исключительно политической форме, которая одна лишь и соответствовала развитому состоянию буржуазии. Вместо протестантов в национальных собраниях заседали свободомыслящие. Это означало, что христианство вступило в свою последнюю стадию. Оно уже не способно было впредь служить идеологической маскировкой для стремлений какого-нибудь прогрессивного класса; оно все более и более становилось исключительным достоянием господствующих классов, пользующихся ям просто как средством" управления, как уздой для низших классов. При этом каждый из господствующих классов использует свою собственную религию: землевладельцы-дворяне— католический иезуитизм или протестантскую ортодоксию; либеральные и радикальные буржуа—рационализм. Вдобавок на деле оказывается совершенно безразличным, верят или не верят сами эти господа в свои религии.
Мы видим, стало быть, что, раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, следовательно, экономическими отношениями людей, делающих эти изменения. И этого здесь достаточно.
В предшествующем изложении можно было дать только общий очерк марксова понимания истории и, самое большее, пояснить ее некоторыми примерами. Доказательства истинности этого понимания могут быть заимствованы только из самой истории, и я вправе сказать здесь, что в других сочинениях приведено уже достаточное количество таких доказательств. Но это понимание наносит философии смертельный удар в области истории точно так же, как диалектическое понимание природы делает ненужной и невозможной всякую натурфилософию. Теперь задача в той и в другой области заключается не в том, чтобы придумывать связи из головы, а в том, чтобы открывать их в самих фактах. За философией, изгнанной из природы и из истории, остается, таким образом, еще только царство чистой мысли, поскольку оно еще остается: учение о законах самого процесса мышления, логика и диалектика.
* * *
После революции 1848 г. “образованная” Германия дала отставку теории и перешла на практическую почву. Основанные на ручном труде мелкий промысел и мануфактура уступили место настоящей крупной промышленности. Германия снова появилась на мировом рынке- Новая малогерманская империя34 устранила, по крайней мере, самые вопиющие из тех препятствий, которые создавались на пути этого развития существованием множества мелких государств, остатка?ли феодализма и бюрократической системой управления. Но в той же мере, в какой спекуляция, покидая кабинеты философов, воздвигала себе храм на фондовой бирже, в той же мере и образованная Германия теряла тот великий интерес к теории, который составлял славу Германии в эпоху ее глубочайшего политического унижения,—интерес к чисто научному исследованию, независимо от того, будет ли полученный результат практически выгоден или нет, противоречит он полицейским предписаниям или нет. Правда, официальное немецкое естествознание стоит еще на высоте своего времени, особенно в области частных исследований. Но, по справедливому замечанию американского журнала “Science”, решающие успехи в деле исследования великой связи между отдельными фактами и в деле обобщения этой связи в законы достигаются теперь преимущественно в Англии, а не в Германии, как прежде. Что же касается исторических наук, включая философию, то здесь вместе с классической философией совсем исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося теоретического исследования. Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая забота о местечке и доходах, вплоть до самого низкопробного карьеризма. Официальные представители этой науки стали откровенными идеологами буржуазии и существующего государства, но в такое время, когда оба открыто враждебны рабочему классу.
И только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравишь. Здесь нет никаких соображений о карьере, о наживе и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих. Найдя в истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества, новое направление с самого начала обращалось преимущественно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не искало и не ожидало со стороны официальной науки. Немецкое рабочее движение является наследником немецкой классической философии.
Печатается по тексту
Сочинений К. Маркса, и Ф. Энгельса, изд. 2. т. 21. стр. 269—317
Приложение
К. МАРКС
ТЕЗИСЫ О ФЕЙЕРБАХЕ [35]
1
Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственнымн объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самое человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в “Сущности христианства” он рассматривает, как истинно чело-веческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берегся и фиксируется только в грязноторгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения “революционной”, “практически-критической” деятельности.
2
Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью,— вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос.
3
Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания,— это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна).
Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика.
4
Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностыо и самопротиворечивостыо этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована.
5
Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию: но он рассматривает чувственность не как практическую, человечески-чувственную деятельность.
6
Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений.
Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным:
1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство [Gemut] обособленно и предположить абстрактного — изолированного — человеческого индивида;
2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как “род”, как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами.
7
Поэтому Фейербах не видит, что “религиозное чувство” само есть общественный продукт и что абстрактный индивид, подвергаемым им анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме.
8
Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики.
9
Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, т.е. материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность, это—созерцаниe им отдельных индвидов в “гражданском обществе".
10
Точка зрения старого материализма есть “гражданское” общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество.
11
Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.
Печатается по тексту Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, изд. 2, т. 3, стр. 1—4
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 8; п данной цитате речь идет о работе К. Маркса и Ф. Энгельса “Немецкая идеология” (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 7—544).
2 С. N. Starcke. “Ludwig Feuerbach”. Stuttgart, 1885 (К. И. Штар-ке. “Людвиг Фейербах”. Штутгарт, 1885).
3 Работа Ф. Энгельса “Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии” — одно из основных произведений марксизма. В ней раскрыто отношение марксизма к его философским предшественникам в лице крупнейших представителей немецкой классической философии Гегеля и Фейербаха и дано систематическое изложение основ диалектического и исторического материализма. Работа была написана в начале 1886 г. н напечатана первоначально в теоретическом журнале германской социал-демократии “Neue Zeit”, a затем вышла отдельным изданием, для которого Энгельсом было написано специальное предисловие. В 1889 г. в пегербургском журнале “Северный вестник” ?? 3 и 4 под названием “Кризис философии классического идеализма в Германии” был напечатан русский перевод работы Энгельса, но без указания автора н с многочисленными добавлениями н отступлениями от текста; иод статьей стояла подпись Г. Л., принадлежавшая переводчику Г. Ф. Львовичу. В 1892 г. в Женеве группой “Освобождение труда” был издан отдельной книгой полный перевод этой работы, сделанный Г. В. Плехановым; в том же году вышел и перевод ее на болгарский язык. В 1894 г. она была напечатана в парижском журнале “Ere nouvelle” ?? 4 н а в переводе Лауры Лафарг, просмотренном Энгельсом. При жизни Энгельса других издании этой работы не выходило; в дальнейшем она неоднократно переиздавалась в Германии, а также на русском и многих других языках.
“L'Erenouvelle” (“Новая эра”) — ежемесячный французский социалистический журнал, выходил в Париже в 1893—1894 годах;
в журнале сотрудничали Ж. Гед, Ж. Жорес, П, Лафарг, Г. В. Плеханов н другие.
4 Энгельс имеет в виду высказывания Гейне о немецкой философской революции, содержащиеся в его работах “К истории религии н философии в Германии”, опубликованной в 1834 г. и пред-ставлявшей собой продолжение обзора событий немецкой духовной жизни, часть которого была напечатана в 1833 году; в этих высказываниях Гейне проводил мысль о том, что философская революция в Германии, завершающим этапом которой была тогда философия Гегеля, является прологом к предстоящей демократической революции в Германии.
5 Энгельс перефразирует здесь место из работы Гегеля “Grundlinien der Philosophic des Rechts”. Vorrede (“Основы философии права”. Предисловие). Первое издание этой работы вышло в Берлине в 1821 году.
6 См. G. W. F. Hegel. “Encyclopadie der philosophischen Wissen-schaiten im Grundrisse. Erster Teil. Die Logik”, § 147; § 142, Zusatz (Г. В. Ф. Гегель. “Энциклопедия философских наук в сжатом очерке. Часть первая. Логика”. § 147; § 142, добавление). Первое издание этой книги вышло в Гендельберге в 1817 году.
7 G. W. F. Hegel. “Wissenschaft der Logik”. Nurnberg, 1812—1816 (Г. В. Ф. Гегель. “Наука логики”. Нюрнберг, 1812—1816). Это произведение состоит из трех частей: 1) объективная логика, учение о бытии (год изд. 1812); 2) объективная логика, учение о сущности (год изд. 1813); 3) субъективная логика, или учение о понятии (год изд. 1816).
8 “DeutscheJalirbucher” — сокращенное название литературно-философского журнала младогегельянцев “DeuischeJahrbuccherfurWissenschaftundKunst” (“Немецкий ежегодник по вопросам науки и искусства”). Журнал издавался в виде ежедневных листков в Лейпциге. Под этим названием журнал выходил с июля 1841 по январь 1843 года; ранее (1838—1841) выходил под названием “Hallische Jahrbucher fur deutsche Wissenschaft und Kunst” (“Гал-леский ежегодник по вопросам немецкой науки и искусства”); до июня 1841 г. журнал редактировался А. Руге и Т. Yooa?iaea?ii в Галле, а с июля 1841 г.—А. Руге в Дрездене. Перенесение местопребывания редакции из прусского города Галле в Саксонию и перемена названия журнала были вызваны угрозой запрещения “Hallische Jahrbucher” в пределах Пруссии. Но и под новым названием журнал просуществовал недолго. В январе 1843 г. журнал “Deutsche Jahrbucher” был закрыт саксонским правительством и запрещен постановлением Союзного сейма на всей территории Германии.
9 “RheinischeZeitungfurPolitik, HandelundGewerbe” (“Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности”) — ежедневная газета, выходила с Кельне с 1 января 1842 по 31 марта 1843 года. Газета была основана представителями рейнской буржуазии, оппозиционно настроенной по отношению к прусскому абсолютизму К сотрудничеству в газете были привлечены и некоторые младогегельянцы. С апреля 1842 г. К. Маркс стал сотрудником “Rheinische Zeitung”, а с октября того же года — одним из ее редакторов. В “Rlicinische Zeitiing” был опубликован также ряд статей Ф. Энгельса. При редакторстве Маркса газета стала принимать все более определенный революционно-демократический характер. Правительство ввело для “Rheinische Zeitung” особо строгую цензуру, а затем закрыло ее.
10 D. F. Straub. “Das Leben Jesu”. Bd. 1—2, Tubingen, 1835— 1836 (Д. Ф. Штраус. “Жизнь Иисуса”. Тт. 1—2, Тюбинген, 1835— 1836).
11 Речь идет о книге: М. Stirner. “Der Einzige und sein Eigen-thum”. Leipzig, 1845 (М. Штирнер. “Единственный и его собственность". Лейпциг, 1845).
12 L, Feuerbach, “Das Wesen des Christenthums”. Leipzig, 1841.
13 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 3—230.
14 Энгельс, по-видимому, имеет в виду книгу: Е. F. im Thurn. “Among the Indians of Guiana”. London, 1883, p. 344—346 (Э. Ф. им Topi. “Среди индейцев Гвианы”. Лондон, 1883, стр. 344— 346).
15 Речь идет о планете Нептун, открытой в 1846 г. немецким астрономом Иоганном Галле.
16 Энгельс цитирует здесь афоризмы Фейербаха. Эта цитата приводится в книге Штарке “Ludwig Feuerbach”. Stuttgart, 1885, на стр. 166. Она взята из книги: К. Grum. “Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass sowie in seiner Philosophischen Charakterentwieklung”. Bd. II, Leipzig und Heidelberg, 1874, S. 308 (К. Грюн. “Людвиг Фейербах, его переписка и литературное наследство. а также анализ его философского воззрения”. Т. II, Лейпциг и Гейдельберг, 1874, сгр. 308).
17 G. W. F. Hegel. “Phanomenologie des Geistes” (Г. В. Ф. Гегель. “Феноменология духа”). Первое издание этой работы вышло в Бамберге и Вюрцбурге в 1807 году.
18 Деисты — сторонники религиозно-философского учения, признающего бога как безличную разумную первопричину мира, но отрицающего его вмешательство в жизнь природы и общества. В условиях господства oaiaaeuii-oa?eoaioao мировоззрения деизм нередко выступал с рационалистических позиций, критикуя средне-вековое теологическое мировоззрение, разоблачая паразитизм и шарлатанство духовенства. Однако деисты в то же время шли на компромисс с paeeaeae, выступая за сохранение ее для народных масс в рациональной форме.
19 Эта цитата взята из работы Фейербаха “Grundsatze der Philosophie. Nothwendigkeit einer Veranderung” (“Основные положения философии. Необходимость изменения”), опубликованной в книге: К. Grun. “Ludwig Feuerbach”. Bd. 1, Leipzig und Heidelberg, 1874, S. 407.
20 Эта цитата взята из работы Фейербаха: “Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist” (“Против дуализма тела и души, плоти и духа”). См. “Ludwig Feuerbach's sammtliche Werke”. Bd. II, Leipzig, 1846, S. 363 (“Полное собрание сочинений Людвига Фейербаха”. Т. II, Лейпциг, 1846, стр. 363).
21 Эта цитата приводится в книге Штарке “Ludwig Feuerbach”. Stuttgart, 1885, на стр. 254. Она взята из работы Фейербаха “Noth meistert alle Gesetze und hebt auf” (“Нужда преодолевает все законы и упраздняет их”), опубликованной в книге: К. Grun. “Ludwig Feuerbach”. Bd. II, Leipzig und Heidelberg, 1874, S. 285— 286.
22 Эта цитата приводится в книге Штарке “Ludwig Feuerbach”. Stuttgart, 1885, на стр. 280. Она взята из работы Фейербаха “Grund-satze der Philosophic. Nothwendigkeit einer Veranderung” (“Основные положения философии. Необходимость изменения”), опубликованной в eieaa: К. Grun. “Ludwig Feuerbach”. Bd. I, Leipzig und Heidelberg, !874, S, 409.
23 С. N. Slarcke. “Ludwig Feuerbach”. Sluttgart, 1885, S. 280.
24 Энгельс резюмирует здесь мысли Гегеля, высказанные в основном в его работах: cGrundlinien der Philosophie des Rechts”, §§ 18, 139, а также “Vorlesungen uber die Philosophie der Religion”. Dritter Theil, II, 3 (“Лекции по философии религии”. Часть третья, II,3). Первое издание этой работы вышло в Берлине в 1832 году.
25 См. работу Л Фейербаха: “Fragmente zur Charakteristik meines philosophischen Curriculurn vitae” (Л. Фейербах. “Фрагменты к характеристике моей философской биографии”) в книге: “Ludwig Feuerbacn's sammtliche Werke”. Bd. II, Leipzig, .1846, S. 411).
26 Ходячее выражение немецкой буржуазной публицистики после победы пруссаков при Садове (в австро-прусской войне 1866 г.), согласно смыслу которого победа Пруссии была обусловлена якобы преимуществами прусской системы народного образования; ведет свое происхождение от высказывания О. Пешеля, редактора выходившего в Аугсбурге журнала “Ausland”, в его статье “Die Lehren der jungsten Kriegsgeschichte” (“Уроки истории недавней войны”), помещенной в ? 29 этого журнала от 17 июля 1866 года.
27 Речь идет о книге П.. Ф. Oo?aona: “Die christliche Glau-benslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung: und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft”. Bd. 1--I1, Tubingen — Stutgart, 1840-1841 (“Христианское вероучение в его историческом развитии и в борьбе с современной наукой”. Тт. 1—Н, Тюбинг, и — Штутгарт. 1840—1841; вторая часть книги, большая по объему, iineo назва-ние “Der materiale Inbagriff der christlichen Glaubenslehre (Dogma-tik)" (“Материальное содержание христианского вероучения (Дог-матика )”).
28 Yiaaeun eiaao a aeao eieao И. Дицгена: “Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit. Dargestellt von einem Handarbeiter. Eine
abermalige Kritik der reinen und praktischen Vernunft”. Hamburg, 1869 (“Сущность головной работы человека. Изложено представителем физического труда. Новая критика чистого и практического разума”. Гамбург, 1869).
29 См. G. W. F. Hegel. “Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte”. Zweiter Theil, zweiter Abschnitt (Г. В. Ф. Гегель. “Лекции no философии истории”. Вторая часть, второй отдел). Первое издание этой книги вышло в Берлине в 1837 году.
30 Никейский собор—первый так называемый вселенский собор епископов христианской церкви Римской империи, созванный в 325 г. императором Константином I в г. Никее в Малой Азии; собор выработал обязательный для всех христиан символ веры (основные положения вероучения ортодоксальной христианской церкви), непризнание которого каралось как государственное преступление.
31 Альбигойцы — религиозная секта, широко распространенная в X!I—XIII вв. в городах Южной Франции и Северной Италии. Главным очагом ее был южнофранцузский город Альби. Альбигойцы, выступавшие против пышных католических обрядов и церковной иерархии, выражали в религиозной форме протест торгово-ремес-ленного населения городов против феодализма. E ним присоединилась часть южнофраннузского дворянства, стремившегося секуляризировать церковные земли. Папа Иннокентий III организовал в 1209 г. крестовый поход против альбигойцев. В результате двадцатилетней войны и свирепых репрессий их движение было подавлено.
32 Речь идет о государственном перевороте 1688 г. в Англии, приведшем к изгнанию Якова II Стюарта и провозглашению в 1689 г. английским королем штатгальтера Голландской республики Вильгельма III Оранского; с 1689 г. в Англии утвердилась конституционная монархия, основанная на компромиссе между земельной аристократией и крупной буржуазией..
33 В 1685 г. в обстановке усилившихся с 20-х годов XVII в. политических и религиозных преследований гугенотов (протестантов-кальвинистов) Людовик XIV отменил изданный в 1598 г. Нантский эдикт, предоставлявший свободу вероисповедания и богослужения гугенотам; в результате отмены Нантского эдикта несколько сот тысяч гугенотов эмигрировали из Франции.
31 Имеется в виду Германская империя, основанная в январе 1871 г. под гегемонией Пруссии и не включавшая в свой состав Австрию.
35 “Oacenu i Oaea?aaoa” написаны К. Марксом в Брюсселе весной 1845 г. и находятся и его “Записной книжке” 1844—1847 годов. Впервые они были опубликованы Ф. Энгельсом в 1888 г. в приложении к отдельному изданию его работы “Людвиг Фейербах и ко-нец классической немецкой философии”; там же указаны место и время написания тезисов.
Заглавие “Тезисы о Фейербахе” дано Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в соответствии с предисловием Энгельса к его работе “Людвиг Фейербах”. В приложении к той же работе они были озаглавлены: “Маркс о Фейербахе”. В “Записной книжке” Маркса имеется заголовок: “К Фейербаху”
Издавая “Тезисы” в 1888 г., Энгельс внес в них некоторые редакционные изменения, чтобы сделать этот документ не предна-значавшийся Марксом для печати, более понятным для читателя. В настоящем издании “Тезисы” даются в том виде, как они были опубликованы Энгельсом, с добавлением, на основании рукописи Маркса, тех курсивов и кавычек, которые отсутствуют в издании 1888 года.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Аппиан (конец I в.—70-е годы II в.) — древнеримский историк.
Б
Бакунин. Михаил Александрович (1814—1876)—русский революционер и публицист, участник революции 1848—1849 гг. в Германии; один из идеологов народничества и анархизма, в I Интернационале выступал как ярый враг марксизма, на Гаагском конгрессе в 1872 г. исключен из I Интернационала за раскольническую деятельность.
Бауэр, Бруно (1809—1882)—немецкий философ-идеалист, один из видных младогегельянцев, буржуазный радикал; после 1866 г. национал-либерал; автор ряда работ по истории христианства.
Бейль, Пьер (1647—1706)—французский философ-скептик, критик религиозного догматизма.
Бертло, Пьер Эжен Марселен (1827—1907) —известный французский химик. буржуазный политический деятель; занимался исследованиями в области органической химии и термохимии, а также агрохимии и истерии химии.
Блан, Eoe, (1811—1882)—французский мелкобуржуазный социалист, историк; в 1848 г. член временного правительства и председатель Люксембургской комиссии; стоял на позициях соглашательства с буржуазией; в августе 1858 г. эмигрировал в Англию, один из руководителей мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне.
Бурбоны—королевская династия во Франции (1589—1792, 1814—1815 и 1815—1830).
Бюхнер, Людвиг (1824—1899) —немецкий буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма.
В
Вольтер, Франсуа Мари (настоящая фамилия Аруэ) (1694-1778)—французский философ-деист, писатель-сатирик, историк, видный представитель буржуазного Просвещения XVIII в., боролся против абсолютизма и католицизма.
Г
Галле, Иоганн Готфрид (18)2—1910)—немецкий астроном, в 1846 г. на основе вычислении Леверье обнаружил планету Нептун.
Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831)—крупнейший представитель классической немецкой философии, объективный идеалист, наиболее всесторонне разработал идеалистическую диалектику; идеолог немецкой буржуазии.
Гейне, Генрих (1797—1856)—великий немецкий революционный поэт.
Гёте, Иоганн Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий писатель и мыслитель; известен также своими работами в области естествознания.
Гизо, Франсуа Пьер Гийом (1787—1874)—французский буржуазный историк и государственный деятель, с 1840 г. до февральской революции 1848 г. фактически руководил внутренней и внешней политикой, выражал интересы крупной финансовой буржуазии.
Гоббс, Томас (1588—1679) — выдающийся английский философ, представитель механистического материализма; социально-политические воззрения Гоббса отличались резко антидемократическими тенденциями.
Грюн, Карл (1817—1887) —немецкий публицист, в середине 40-х годов один из главных представителей “истинного социализма”; в период революции 1848—1849 гг. выступал как мелкобуржуазный демократ, депутат прусского Национального собрания; в 1874 г. издал переписку и литературное наследство Л. Фейербаха.
Д
Дарвин, Чарлз (1809—1882) —великий английский естествоиспытатель, основоположник научной эволюционной биологии.
Декарт, Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ-дуалист, математик и естествоиспытатель.
Дидро, Дени (1713—1784)—выдающийся французский философ, представитель механистического материализма, атеист, один из идеологов французской революционной буржуазии, просветитель, глава энциклопедистов; в 1749 г. за свои произведения подвергся заключению в крепость.
Дицген, Иосиф (1828—1888) —немецкий социал-демократ, философ-самоучка, самостоятельно пришедший к основам диалектического материализма; по профессии рабочий-кожевник.
3
Зевс — верховный бог в древнегреческой мифологии.
И
Им Турн, Эверард Фердинанд (1852—1932) — английский колониальный чиновник, путешественник и антрополог.
К
Кальвин, Жан (1509—1564)—видный деятель Реформации, основатель одного из направлений протестантизма—кальвинизма, выражавшего интересы буржуазии эпохи первоначального накопления капитала.
Кант, Иммануил (1724—1804) —родоначальник классической немецкой философии, идеалист, идеолог немецкой буржуазии.
Коперник, Николай (1473—1543)—великий польский астроном, создатель учения о гелиоцентрической системе мира.
Копп, Герман Франц Мориц (1817—1892)—немецкий химик и историк химии.
Л
Ламарк. Жан Батист Пьер Антуан (1744—1829)—выдающийся французский естествоиспытатель, создатель первой целостной эволюционной теории в биологии, предшественник Дарвина.
Леверье, Урбен Жан Жозеф (1811—1877)—выдающийся французский астроном и математик, в 1846 г. вычислил орбиту еще не ec-вестной тогда планеты Нептун и определил положение этой планеты на небе.
Людовик XIV (1638—1715)—французский король (1643— 1715)..
Лютер, Мартин (1483—1546) —видный деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) и Германии; идеолог немецкого бюргерства; во время Крестьянской войны 1525 г. выступил против восставших крестьян и городской бедноты на стороне князей.
М
Маркс, Карл (1818—1883) (биографические данные).
Мефистофель — одно из главных действующих лиц трагедии Гёте “Фауст”.
Минье, Франсуа Огюст Мари (1796—1884) — французский либерально-буржуазный историк периода Реставрации, подошел к пониманию роли классовой борьбы в истории становления буржуазного общества.
Молешотт, Якоб (1822—1893) — буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма, родом из Голландии; преподавал в учебных заведениях Германии, Швейцарии и Италии.
Н
Наполеон 1 Бонапарт (1769—1821) — французский император (1804—1814 и 1815).
О
Оуэн, Роберт (1771—1858)—великий английский социалист-утопист.
П
Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865)—французский публицист, экономист и социолог, идеолог мелкой буржуазии, один из родоначальников анархизма.
Р
Радамант — в древнегреческой мифологии мудрый, справедливый судья.
Ренан, Эрнест (1823—1892) — французский филолог и историк христианства, философ-идеалист.
Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., вождь якобинцев, глава революционного правительства (1793—1794); сделал неудачную попытку заменить христианство культом “верховного существа”.
Руссо, Жан Жак (1712—1778) —выдающийся французский просветитель, демократ, идеолог мелкой буржуазии, философ-деист.
Т
Тьер, Луи Адольф (1797—1877) —французский буржуазный историк и государственный деятель, премьер-министр (1836, 1840); в период Второй республики депутат Учредительного и Законодательного собраний, орлеанист; глава исполнительной власти (председатель совета министров) (1871), президент республики (1871—1873), палач Парижской Коммуны.
Тьерри, Жак Никола Огюстен (1795—1856) — французский либерально буржуазный историк периода Реставрации, в своих работах приблизился к пониманию роли материальных факторов и классовой борьбы в истории развития феодального и становления буржуазного общества.
Ф
Фейербах, Людвиг (1804—1872).
Фогт, Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист, мелкобуржуазный демократ; в 1848—1849 гг. депутат франкфуртского Национального собрания, принадлежал к левому крылу, в 1849 г. эмигрировал из Германии; в 50—60-х годах тайный платный агент Луи Бонапарта, один из активных участников клеветнической травли пролетарских революционеров, разоблачен Марксом в памфлете “Господин Фогт” (1860).
Фридрих-Вильгельм III (1770—1840) — прусский король (1797— 1840).
Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) — прусский король (1840— 1861).
Ш
Шиллер, Фридрих (1759—1805)—великий немецкий писатель.
Штарке, Карл Николай (1858—1926) —датский буржуазный философ и социолог.
Штирнер, Макс (литературный псевдоним Каспара Шмидта) (1806—1856)—немецкий философ, младогегельянец, один из идеологов буржуазного индивидуализма и анархизма.
Штраус, Давид Фридрих (1808—1874)—немецкий философ и публицист, один из видных младогегельянцев, автор книги “Жизнь Иисуса”; после 1866 г. национал-либерал.
Э
Энгельс, Фридрих (1820—1895) (биографические данные).
Ю
Юм, Давид (1711—1776) — английский философ, субъективный идеалист, агностик, буржуазный историк и экономист.