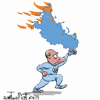I
(Essais sur la conception materialiste de l'histoire par Antonio Labriola, professeur a l'universite de Rome, avec une preface de G. Sore'l. Paris 1897.)
Признаёмся, мы с немалым предубеждением взяли в руки эту книгу римского профессора: мы были напуганы некоторыми сочинениями некоторых его соотечественников, например, А. Лориа 2 (см. особенно его «La teoria economica della constituzione politica») . Но уже первые страницы книги убедили нас, что мы были неправы и что иное дело Акилле Лориа, а иное дело Антонио Лабриола. Когда же мы подошли к её концу, нам захотелось поговорить о ней с русским читателем. Надеемся, что он не посетует на нас за это. Ведь
Так редки книги не пустые!
Сочинение Лабриола вышло прежде по-итальянски. Французский перевод тяжёл, а местами и прямо неудачен. Мы с уверенностью говорим это, хотя не имеем под руками итальянского подлинника. Но итальянский автор не может отвечать за французского переводчика. Во всяком случае, мысли Лабриола понятны и в тяжеловесном французском переводе. Посмотрим же, каковы они.
2 Г. В. Плеханов
3
Г. Кареев 3, который, как известно, весьма усердно читает и чрезвычайно удачно искажает всякий «труд», имеющий хоть некоторое отношение к материалистическому пониманию истории, наверное зачислит нашего автора по ведомству «экономического материализма». Это будет неправильно. Лабриола твёрдо и довольно последовательно держится материалистического понимания истории; но «экономическим материалистом» он себя не считает. Он думает, что такое название скорее подходит к писателям, вроде известного Т. Роджерса 4, чем к нему и его единомышленникам. И это как нельзя более верно, хотя, на первый взгляд, может быть, и не совсем понятно.
Спросите любого народника или субъективиста, что такое экономический материалист? Он ответит: это человек, приписывающий экономическому фактору господствующее значение в общественной жизни. Так понимают экономический материализм наши народники и субъективисты. И надо признать, что люди, приписывающие экономическому «фактору» господствующую роль в жизни человеческих обществ, несомненно существуют. Г. Михайловский не однажды указывал на Луи Блана 5, который говорил о господстве названного фактора значительно раньше известного учителя известных русских учеников 6. Мы не понимаем одного: почему наш маститый субъективный социолог остановился на Луи Блане. Он должен был бы знать, что в интересующем нас отношении у Луи Блана было много предшественников. И Гизо, и Минье, и Огюстен Тьерри, и Токвиль признавали преобладающую роль экономического «фактора», по крайней мере, в истории средних веков и нового времени 7. Стало быть, все эти историки были экономическими материалистами. В наше время упомянутый Т. Роджерс в своей книге «The economic interpretation of history тоже выказал себя убеждённым экономическим материалистом; он тоже признал преобладающее значение экономического «фактора». Из этого, конечно, ещё не следует, что социально-политические взгляды Т. Роджерса были тождественны со взглядами, например, хотя бы Луи Блана. Роджерс стоял на точке зрения буржуазной экономии, а Луи Блан был когда-то одним из
представителей утопического социализма.
Если бы вы спросили Роджерса, как он смотрит на буржуазный экономический порядок, он ответил бы, что в основе этого порядка лежат коренные свойства человеческой природы, и что, поэтому, история его возникновения есть постепенное устранение препятствий, некогда затруднявших проявления названных свойств и даже делавших его невозможным. Луи Блан же объявил бы, что сам капитализм есть одно из препятствий, воздвигнутых невежеством и насилием на пути к созданию такого экономического порядка, который будет, наконец, действительно соответствовать человеческой природе. Это, как видите, очень существенное разногласие. Кто оказался бы ближе к истине? Говоря откровенно, мы думаем, что оба эти писателя были почти одинаково далеки от неё, но мы не хотим и не можем останавливаться здесь на этом. Для нас важно теперь совсем другое. Мы просим читателя заметить, что и для Луи Блана, и для Роджерса экономический фактор, господствующий в общественной жизни, сам был, как выражается математика, функцией человеческой природы, а, главным образом, — человеческого ума и знаний. То же надо сказать и об упомянутых нами выше французских историках времён реставрации. Ну, а как назвать исторические взгляды людей, хотя и утверждающих, что экономический фактор господствует в общественной жизни, но в то же время убеждённых, что фактор этот,—т.-е. экономика общества, — в свою очередь является плодом человеческих знаний и понятий? Такие взгляды нельзя назвать иначе, как идеалистическими. Выходит, что экономический материализм ещё не исключает исторического идеализма. Да и это ещё не совсем точно; мы говорим—ещё не исключает идеализма, а следует сказать: может быть, и до сих пор чаще всего, бывал простою его разновидностью. После этого понятно, почему люди вроде Антонио Лабриола не признают себя экономическими материалистами: именно потому, что они последовательные материалисты и именно потому, что исторические их взгляды представляют собою прямую противоположность историческому идеализму.
2*
5
«Однако, — скажет нам, пожалуй, г. Кудрин 8, — вы, по свойственной многим «ученикам» привычке, прибегаете к парадоксам, играете словами, отводите глаза, глотаете шпаги. У вас экономическими материалистами оказались идеалисты. Но в таком случае, как же прикажете понимать подлинных и последовательных материалистов? Неужели они отвергают мысль о преобладании экономического фактора? Неужели они признают, что рядом с этим фактором в истории действуют ещё и другие, и что напрасно мы стали бы допытываться, какой из них господствует над всеми остальными? Нельзя не порадоваться за подлинных и последовательных материалистов, если они в самом деле не склонны всюду совать экономический фактор».
Мы ответим г. Кудрину, что подлинные и последовательные материалисты, действительно, не склонны всюду лезть с экономическим фактором. Да и самый вопрос о том, какой фактор господствует в общественной жизни, кажется им неосновательным вопросом. Но пусть не спешит радоваться г. Кудрин. Подлинные и последовательные материалисты пришли к этому убеждению вовсе не под влиянием гг. народников и субъективистов. Над возражениями, которые делаются этими господами против мысли о господстве экономического фактора, подлинные и последовательные материалисты могут только смеяться. Притом же опоздали гг. народники и субъективисты с этими возражениями. Неуместность вопроса о том, какой фактор господствует в общественной жизни, стала очень заметной уже со времени Гегеля. Гегелевский идеализм исключал самую возможность подобных вопросов. Тем более исключает её современный нам диалектический материализм. С тех пор как появилась «Критика критической критики», и особенно со времени выхода в свет известной книги: «Zur Kritik der politischen Oekonomie» *9, препираться об относительном значении различных социально-исторических факторов могли только отсталые в теории люди. Мы знаем, что наши слова удивят не одного только г. Кудрина, и потому спешим объясниться.
* «К критике политической экономии». — Ред.
Что такое — социально-исторические факторы? Как возникает представление о них?
Возьмём пример. Братья Гракхи стремятся остановить гибельный для Рима процесс захвата общественных земель римскими богачами. Богачи сопротивляются Гракхам. Завязывается борьба. Каждая из борющихся сторон страстно преследует свои цели. Если бы я захотел описать эту борьбу, я мог бы представить её, как борьбу человеческих страстей. Страсти явились бы, таким образом, «факторами» внутренней истории Рима. Но как сама Гракхи, так и их противники пользовались в борьбе теми средствами, которые давало им римское государственное право. Я, конечно, не позабуду об этом в моём рассказе, и, таким образом, римское государственное право тоже окажется фактором внутреннего развития римской республики. Далее: люди, боровшиеся против Гракхов, были материально заинтересованы в поддержании глубоко укоренившегося злоупотребления. Люди, поддерживавшие Гракхов, были материально заинтересованы в его устранении. Я укажу и на это обстоятельство, вследствие чего описываемая мною борьба явится борьбою материальных интересов, борьбою классов, борьбою бедных с богатыми. Следовательно, вот у меня уже и третий фактор, и на этот раз самый интересный: знаменитый экономический фактор. Если у вас есть .время и охота, вы, мой читатель, можете пространно рассуждать на тему о том, какой именно из факторов внутреннего развития Рима господствовал надо всеми: в моём историческом рассказе вы найдёте достаточно данных для поддержания любого мнения на этот счёт.
Что касается меня, то пока я не выйду из роли простого рассказчика, — я не стану очень горячиться по поводу факторов. Их сравнительное значение меня совсем не интересует. Как рассказчику, мне нужно одно: по воможности точно и живо изобразить данные события. Для этого я должен установить известную, хотя бы только внешнюю связь между ними и расположить их в известной перспективе. Если я упоминаю о страстях, волновавших боровшиеся стороны, или о тогдашнем государственном устройстве Рима, или, наконец, о существовавшем в нём неравенстве имуществ, то я делаю это единственно в интересах связного и живого изложения событий.
3 Г. В, Плеханов
7
Достигнув этой цели, я почувствую себя совершенно удовлетворённым, равнодушно предоставляя философам решать, — господствуют ли страсти над экономией, или экономия над страстями, или, наконец, ничто ни над чем не господствует, так как каждый «фактор» пользуется золотым правилом: живи и жить давай другим.
Всё это будет в том случае, если я не выйду из роли простого рассказчика, чуждого всякой склонности к «лукавому мудрствованию». А что будет, если я не ограничусь этой ролью; если я пущусь философствовать по поводу описываемых мною событий? Тогда я уже не удовольствуюсь одною внешнею связью событий; тогда я пожелаю открыть их внутренние причины, и те самые факторы, — человеческие страсти, государственное право, экономика, — которые я прежде оттенял и выдвигал, руководимый почти одним только художественным инстинктом, получат в моих глазах новое, огромное значение. Они представятся мне именно этими искомыми внутренними причинами, именно теми «скрытыми силами», влиянием которых и объясняются события. Я создам теорию факторов.
Та или другая разновидность такой теории, действительно, должна родиться всюду, где люди, интересующиеся общественными явлениями, переходят от простого их созерцания и описания к исследованию существующей между ними связи.
Теория факторов растёт, кроме того, вместе с ростом разделения труда в общественной науке. Все отрасли этой науки — этика, политика, право, политическая экономия и проч. — рассматривают собственно одно и то же: деятельность общественного человека. Но они рассматривают её каждая с своей особой точки зрения. Г-н Михайловский сказал бы, что каждая из них «заведует» особою «струною». Каждая «струна» может быть рассматриваема, как фактор общественного развития. И в самом деле, мы можем теперь насчитать почти столько же факторов, сколько существует отдельных «дисциплин» в общественной науке.
После сказанного, надеемся, понятно, что такое социально-исторические факторы и как возникает представление о них.
Социально-исторический фактор есть абстракция, представление о нём возникает путём отвлечения (абстрагирования). Благодаря процессу абстрагирования, различные стороны общественного целого принимают вид обособленных категорий, а различные проявления и выражения деятельности общественного человека — мораль, право, экономические формы и проч. — превращаются в нашем уме в особые силы, будто бы вызывающие и обусловливающие эту деятельность, являющиеся её последними причинами.
Раз возникла теория факторов, необходимо должны начаться споры о том, какой фактор нужно признать господствующим.
III
Между «факторами» существует взаимодействие: каждый из них влияет на все остальные и, в свою очередь, испытывает на себе влияние всех остальных. В результате получается такая запутанная сеть взаимных влияний, прямых действий и отражённых воздействий, что у человека, задавшегося целью объяснить себе ход общественного развития, начинает кружиться голова, и он чувствует непреодолимую потребность найти хоть какую-нибудь нить для выхода из этого лабиринта. Так как горький опыт убедил его в том, что точка зрения взаимодействия приводит лишь к головокружению, то он ищет другой точки зрения; он старается упростить свою задачу. Он спрашивает себя, не является ли какой-нибудь из социально-исторических факторов первой основной причиной возникновения всех остальных. Если бы ему удалось решить этот вопрос в утвердительном смысле, то его задача, действительно, была бы несравненно проще. Положим, он убедился, что все общественные отношения всякой данной страны, в своём возникновении и развитии, обусловливаются ходом её умственного развития, который, с своей стороны, определяется свойствами человеческой природы (идеалистическая точка зрения). Тогда он легко выходит из заколдованного круга взаимодействия и создаёт более или менее стройную и последовательную теорию общественного развития. Впоследствии, благодаря дальнейшему изучению предмета, он увидит,
з*
9
может быть, что он ошибался, что нельзя признать умственное развитие людей первой причиной всего общественного движения. Сознаваясь в своей ошибке, он в то же время заметит, вероятно, что ему всё-таки полезно было его временное убеждение в господстве умственного фактора над всеми остальными, так как без этого убеждения он не сошёл бы с мёртвой точки взаимодействия и ни на один шаг не подвинулся бы в понимании общественных явлений.
Было бы несправедливо осуждать такого рода попытки установить ту или другую иерархию между факторами общественно-исторического развития. Они были так же необходимы в своё время, как неизбежно было появление самой теории факторов. Антонио Лабриола, полнее и лучше всех других материалистических писателей разобравший эту теорию, очень верно говорит, что «историчен ские факторы представляют собою нечто гораздо меньшее, чем наука, и гораздо большее, чем грубое заблуждение». Теория факторов принесла свою долю пользы науке. «Специальное изучение историко-социальных факторов послужило, — как служит всякое эмпирическое изучение, не идущее дальше видимого движения вещей,— к усовершенствованию наших орудий наблюдения и дало возможность найти в самих явлениях, искусственно изолированных посредством отвлечения, ту сеязь, которая соединяет их с общественным целым». В настоящее время знакомство со специальными общественными науками необходимо для всякого, кто пожелал бы восстановить какую-нибудь часть прошлой жизни человечества. Историческая наука недалеко ушла бы без филологии. А мало ли услуг оказали науке односторонние романисты, считавшие римское право писанным разумом?
Но как бы ни была законна и полезна в своё время теория факторов, она не выдерживает теперь критики. Она расчленяет деятельность общественного человека, превращая различные её стороны и проявления в особые силы, будто бы определяющие собою историческое движение общества. В истории развития общественной науки эта теория играла такую же роль, как теория отдельных физических сил в естествознании. Успехи естествознания привели к учению об единстве этих сил, к современному учению об энергии. Точно так же и успехи общественной науки должны были повести к замене теории факторов, этого плода общественного анализа, синтетическим взглядом на общественную жизнь.
Синтетический взгляд на общественную жизнь не составляет особенности современного нам диалектического материализма. Его мы находим уже у Гегеля, для которого задача состояла в научном объяснении всего общественно-исторического процесса, взятого во всём его целом, т.-е., между прочим, со всеми теми сторонами и проявлениями деятельности общественного человека, которые людям абстрактного мышления представлялись в виде отдельных факторов. Но Гегель, в своём качестве «абсолютного идеалиста», объяснял деятельность общественного человека свойствами всемирного духа. Раз даны эти свойства — дана «an sich» вся история человечества, даны и её конечные результаты. Синтетический взгляд Гегеля был в то же время телеологическим взглядом. Новейший диалектический материализм окончательно устранил телеологию из общественной науки.
Он показал, что люди делают свою историю вовсе не затем, чтобы шествовать по заранее начертанному пути прогресса, и не потому, что должны повиноваться законам какой-то отвлечённой (по выражению Лабриола — метафизической) эволюции. Они делают её, стремясь удовлетворить свои нужды, и наука должна объяснить нам, как влияют различные способы удовлетворения этих нужд на общественные отношения людей и на их духовную деятельность.
Способы удовлетворения нужд общественного человека, да в значительной степени и сами эти нужды, определяются свойствами тех орудий, с помощью которых он в большей или меньшей степени подчиняет себе природу; иначе сказать, они определяются состоянием его производительных сил. Всякое значительное изменение состояния этих сил отражается также и на общественных отношениях людей, т.-е., между прочим, и на их экономических отношениях. Для идеалистов всех видов и разновидностей экономические отношения были функцией человеческой природы; материалисты-диалектики считают эти отношения функцией общественных производительных сил.
Отсюда следует, что, если бы материалисты-диалектики считали позволительным говорить о факторах общественного развития иначе, как с целью критики этих устарелых фикций, то они прежде всего должны были поставить на вид так называемым экономическим материалистам изменчивость их «господствующего» фактора; новейшие материалисты не знают такого экономического порядка, который один соответствовал бы человеческой природе, между тем как все другие виды экономического общественного устройства являлись бы следствием большего или меньшего насилия над нею. По учению новейших материалистов, человеческой природе соответствует всякий экономический порядок, соответствующий состоянию производительных сил в данное время. И наоборот, любой экономический порядок начинает противоречить требованиям этой природы, едва только он приходит в противоречие с состоянием производительных сил. «Господствующий» фактор сам оказывается, таким образом, Подчинённым другому «фактору». Ну, а после этого какой же он «господствующий»?
Если всё это так, то ясно, что между материалистами-диалектиками и людьми, которых не без основания можно назвать экономическими материалистами, лежит целая пропасть. А к какому направлению принадлежат те совершенно неприятные ученики не совершенно приятного учителя, против которых гг. Кареев, Н. Михайловский, С. Кривенко 10 и прочие умные и учёные люди ещё недавно выступали так азартно, хотя и не так счастливо? Если мы не ошибаемся, «ученики» целиком стояли на точке зрения диалектического материализма. Почему же гг. Кареев, Н. Михайловский, С. Кривенко и прочие умные и учёные люди приписывали им взгляды экономических материалистов и громили их именно за то, что они будто бы приписывают экономическому фактору преувеличенное значение. Можно предположить, что умные и учёные люди делали это потому, что доводы блаженной памяти экономических материалистов легче опровергать, чем доводы материалистов-диалектиков. А можно предположить ещё и то, что наши учёные противникиучеников плохо усвоили себе их взгляды. Это предположение даже вероятнее.
Нам возразят, пожалуй, что сами «ученики» иногда называли себя экономическими материалистами и что название «экономический материализм» было впервые употреблено одним из французских «учеников»11. Это так. Но ни французские, ни русские ученики никогда не связывали со словами «экономический материализм» того представления, которое связывается с ним у наших народников и субъективистов. Достаточно напомнить то обстоятельство, что, по мнению г. Н. Михайловского, Луи Блан и г. Ю. Жуковский 12 были такими же «экономическими материалистами», как и нынешние наши сторонники материалистического взгляда на историю. Дальше этого смешение понятий итти не может.
IV
Устраняя из общественной науки всякую телеологию и объясняя деятельность общественного человека его нуждами и существующими в данное время средствами и способами их удовлетворения, диалектический материализм впервые придаёт названной науке ту «строгость», которою часто кичилась перед нею её сестра — наука о природе. Можно сказать, что наука об обществе сама становится естественной наукой: «notre doctrine natura-liste d'hlstoire» , справедливо говорит Лабриола. Но это вовсе не значит, что для него область биологии сливается с областью общественной науки. Лабриола — горячий противник «политического и социального дарвинизма», который давно уж, «подобно эпидемии, заразил умы многих мыслителей, а особенно адвокатов и декламаторов социологии» и, как модная привычка, повлиял даже на язык политических практиков.
Без сомнения, человек есть животное, связанное узами родства с другими животными. Он вовсе не привилегированное существо по своему происхождению-; физиология его организма есть не более, как частный случай
общей физиологии. Первоначально он, подобно другим животным, всецело подчинялся влиянию окружавшей его естественной среды, которая ещё не испытала тогда на себе его видоизменяющего воздействия; он должен был приспособляться к ней, борясь за своё существование. По мнению Лабриола, результатом такого — непосредственного—приспособления к естественной среде являются расы, поскольку они отличаются одна от другой физическими признаками—напр., белая, чёрная, жёлтая расы,— а не представляют собою вторичных историко-социаль-ных формаций, т.-е. наций и народов. В качестве такого же результата приспособления к естественной среде в борьбе за существование возникли первобытные инстинкты общественности и зачатки полового подбора.
Но мы можем только догадываться о том, каков был «первобытный человек». Люди, населяющие землю в настоящее время, равно как и те, которые прежде были наблюдаемы заслуживающими доверия исследователями, оказываются уже довольно далёкими от того момента, когда прекратилась для человечества животная жизнь в собственном смысле этого слова. Так, например, ирокезы со своей — изученной и описанной Морганом 13 — gens materna , уже сравнительно очень далеко ушли по пути общественного развития. Даже современные нам австралийцы не только имеют язык, — который можно назвать условием и орудием, причиной и следствием общественности, — и не только знакомы с употреблением огня, но живут обществами, имеющими определённый строй, с определёнными обычаями и учреждениями. Австралийское племя имеет свою территорию, свои охотничьи приёмы; оно имеет известные орудия защиты и нападения, известную утварь для хранения запасов, известные способы украшения тела, словом, австралиец живёт уже в известной, правда, очень элементарной, искусственной среде, к которой он и приспособляется с самого раннего детства. Эта искусственная, — общественная, — среда есть необходимое условие всякого дальнейшего прогресса. Степенью её развития измеряется степень дикости или варварства всякого данного племени.
Эта первичная общественная формация соответствует так называемому доисторическому быту человечества. Начало исторической жизни предполагает ещё большее развитие искусственной среды и гораздо большую власть человека над природой. Сложные внутренние отношения обществ, выступающих на путь исторического развития, собственно обусловливаются вовсе не непосредственным влиянием естественной среды. Они предполагают изобретение известных орудий труда, приручение некоторых животных, уменье добывать некоторые металлы и тому подобное. Эти средства и способы производства при различных обстоятельствах изменялись очень различно; в них можно было заметить прогресс, застой или даже регресс, но никогда эти изменения не возвращали людей к чисто животной жизни, т,-е. к жизни под непосредственным влиянием естественной среды.
«Первая и главная задача исторической науки есть определение и исследование этой искусственной среды — её происхождения и её видоизменений. Сказать, что эта среда составляет часть природы, значит высказать мысль, которая не имеет никакого определённого значения именно благодаря своему слишком общему и отвлечённому характеру» *.
Не менее отрицательно, чем к «политическому и социальному дарвинизму» относится Лабриола и к усилиям некоторых «милых дилетантов» соединить материалистическое понимание истории с общей теорией эволюции, которая, по его резкому, но верному замечанию, у многих превратилась в простую метафизическую метафору. Он смеётся также над наивной любезностью «милых дилетантов», старающихся поставить материалистическое понимание истории под покровительство философии Огюста Конта или Спенсера: «это значит выдать нам за союзников самых решительных наших противников», говорит он.
Замечание о дилетантах очевидно относится, между прочим, к профессору Энрико Фсрри, автору очень поверхностного сочинения: «Спенсер, Дарвин и Маркс», вышедшего в французском переводе под названием «Socialisme et science positive* **.
* Essais, p. 144 (Очерки, стр. 144. — Ред.). ** «Социализм и положительная наука». — Ред.
Итак, люди делают свою историю, стремясь удовлетворить свои нужды. Нужды эти даются первоначально, конечно, природой; но затем значительно изменяются, в количественном и качественном отношениях, свойствами искусственной среды. Находящиеся в распоряжении людей производительные силы обусловливают собою все их общественные отношения. Прежде всего состоянием производительных сил определяются те отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном процессе производства, т.-е. экономические отношения. Эти отношения естественно создают известные интересы, которые находят своё выражение в праве. «Каждая правовая норма защищает определённый интерес», — говорит Лабриола. Развитие производительных сил создаёт разделение общества на классы, интересы которых не только различны, но во многих, — и притом самых существенных отношениях, — диаметрально противоположны. Эта противоположность интересов порождает враждебные столкновения между общественными классами, их борьбу. Борьба приводит к замене родовой организации государственной, задача которой заключается в охранении господствующих интересов. Наконец, на почве общественных отношений, обусловливаемых данным состоянием производительных сил, вырастает обычная нравственность, т.-е. та нравственность, которая руководит людьми в их обычной житейской практике.
Таким образом, право, государственный строй и нравственность всякого данного народа непосредственно и прямо обусловливаются свойственными ему экономическими отношениями. Этими же отношениями обусловливаются, — но уже косвенно и посредственно, — все создания мысли и воображения: искусство, наука и т. д.
Чтобы понять историю научной мысли или историю искусства в данной стране, недостаточно знать её экономию. Надо от экономии уметь перейти к общественной психологии, без внимательного изучения и понимания которой невозможно материалистическое объяснение истории идеологий. Это не значит, конечно, что существует какая-то общественная душа или какой-то коллективный народный «дух», развивающийся по своим особым законам и выражающийся в общественной
55
жизни. «Это чистейший мистицизм», говорит Лабриола. Для материалиста в данном случае речь может итти только о преобладающем настроении чувств и умов в данном общественном классе данной страны и данного времени. Такое настроение чувств и умов является результатом общественных отношений. Лабриола твёрдо убеждён в том, что не формы сознания людей определяют формы их общественного бытия, а наоборот — формами их общественного бытия определяются формы их сознания. Но, раз возникнув на почве общественного бытия, формы человеческого сознания составляют часть истории. Историческая наука не может ограничиться одной анатомией общества ; она имеет е виду всю совокупность явлений, прямо или косвенно обусловленных общественной экономией, до работы воображения включительно. Нет ни одного исторического факта, который своим происхождением не был бы обязан общественной экономии; но не менее верно и то, что нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания. Отсюда — огромная важность общественной психологии. Если с нею необходимо считаться уже в истории права и политических учреждений, то без неё нельзя сделать ни шагу в истории литературы, искусства, философии и проч.
Когда мы говорим, что данное произведение вполне верно духу, например, эпохи Возрождения, то это значит, что оно совершенно соответствует преобладавшему в то время настроению тех классов, которые давали тон общественной жизни. Пока не изменились общественные отношения, психология общества тоже не изменяется. Люди привыкают к данным верованиям, данным понятиям, данным приёмам мысли, данным способам удовлетворения данных эстетических потребностей. Но если развитие производительных сил приводит к сколько-нибудь существенным переменам в экономической структуре общества, а вследствие этого и во взаимных отношениях общественных классов, то изменяется и психология этих классов, а с нею и «дух времени», и «характер народа». Эта перемена выражается в появлении новых религиозных верований или новых философских понятий, новых направлений в искусстве или новых эстетических потребностей.
По мнению Лабриола, надо также принять в соображение, что в идеологиях играют часто очень большую роль переживания понятий и направлений, унаследованных от предков и сохраняемых лишь по преданию. Кроме того, в идеологиях сказывается также и влияние природы.
Искусственная среда, как мы уже знаем, чрезвычайно сильно преобразует влияние природы на общественного человека. Из непосредственного влияние это делается посредственным. Но оно не перестаёт существовать. В темпераменте всякого народа сохраняются некоторые, созданные влиянием естественной среды, особенности, которые до известной степени видоизменяются, но никогда не уничтожаются вполне приспособлением к общественной среде. Эти особенности народного темперамента составляют то, что называется расой. Раса оказывает несомненное влияние на историю некоторых идеологий, например, искусства. И это обстоятельство ещё более затрудняет её и без того уже не лёгкое научное объяснение.
VI
Мы довольно подробно и, надеемся, точно изложили взгляды Лабриола на зависимость общественных явлений от экономической структуры общества, в свою очередь обусловливаемой состоянием его производительных сил. По большей части мы совершенно согласны с ним. Но .местами его взгляды вызывают в нас некоторые сомнения, по поводу которых мы хотим сделать несколько замечаний.
Укажем прежде всего1 вот на что. По словам Лабриола, государство является организацией господства одного общественного класса над другим или над другими. Это так. Но это едва ли выражает полную истину. В таких государствах, как Китай или древний Египет, где цивилизованная жизнь была невозможна без очень
Q
сложных и обширных работ по регулированию течения и разлива больших рек и по организации орошения, возникновение государства может быть в весьма значительной степени объяснено' непосредственным влиянием нужд общественно-произзодительного процесса. Неравенство, без сомнения, существовало там уже в доисторическое время и в той или другой степени, как внутри племён, вошедших в состав государства, — и часто совершенно различных по своему этнографическому происхождению, — так и между племенами. Но те господствующие классы, с которыми мы встречаемся в истории этих стран, заняли своё более или менее высокое общественное положение именно благодаря государственной организации, вызванной к жизни нуждами общественно-производительного процесса. Едва ли можно сомневаться в том, что сословие египетских жрецов своим господством обязано было тому огромному значению, которое имели их зачаточные научные сведения для всей системы египетского земледелия . На западе, — к которому, разумеется, надо отнести также Грецию, — мы не замечаем влияния непосредственных нужд общественного процесса производства, — не предполагающего там сколько-нибудь широкой общественной организации,— на возникновение государства. Но и там это: возникновение должно быть в значительной степени отнесено на счёт необходимости общественного разделения труда, вызванной развитием общественных производительных сил. Это обстоятельство не мешало, конечно, государству быть в то же время организацией господства привилегированного меньшинства над более или менее порабощенным большинством . Но его ни в каком случае не следует упускать
рек для блага людей... Я провёл речную воду в пустыни; я наполнил ею иссохшие рвы... Я оросил пустынные равнины; я дал им плодородие и изобилие. Я сделал из них обитель счастья». Тут верно, хотя хвастливо, изображается роль восточного государства в организации общественного процесса производства.
из виду во избежание неправильных и односторонних понятий об исторической роли государства.
А теперь перейдём ко взглядам Лабриола на историческое развитие идеологий. Мы видели, что, по его мнению, это развитие усложняется действием расовых особенностей и вообще влиянием на людей окружающей их естественной среды. Очень жаль, что наш автор не счёл нужным подтвердить и пояснить это мнение какими-нибудь примерами; нам легче было бы понять его. Во всяком случае несомненно, что оно не может быть принято в том виде, в каком оно высказано.
Краснокожие племена Америки, конечно, не принадлежат к одной расе с племенами, населявшими в доисторические времена греческий архипелаг или берега Балтийского моря. Несомненно, что в каждой из этих местностей первобытный человек испытывал! очень своеобразные влияния естественной среды. Можно было бы ожидать, что различие этих влияний отразится на произведениях зачаточного искусства первобытных обитателей названных местностей. И, однако, мы этого не замечаем. Во всех частях земного шара, как бы ни отличались они одна от другой, одинаковым стадиям развития первобытного человека соответствуют одинаковые ступени развития искусства. Мы знаем искусство каменного века, искусство железного века; мы не знаем искусства различных рас: белой, жёлтой н т. д. Состояние производителных сил отражается даже в частностях. Сначала мы встречаем, например, на гончарных изделиях только прямые и ломаные линии: четырёхугольники, кресты, зигзаги и т. д. Этот род украшений заимствуется первобытным искусством от ещё более первобытных ремёсел: ткачества и плетения. В бронзовом веке, вместе с обработкой металлов, способных принимать при обработке всевозможные геометрические формы, появляются криволинейные украшения; наконец, с приручением животных появляются их фигуры и прежде всего фигура лошади .
Правда, при изображении человека уже непременно должно сказаться влияние расовых признаков на «идеалы красоты», свойственные первобытным художникам.
Известно, что каждая раса, особенно на первых ступенях общественного развития, считает себя самой красивой и очень высоко ценит как раз те признаки, которые отличают её от других рас . Но, во-первых, эти особенности расовой эстетики, — поскольку они остаются постоянными, — не могут изменить своим влиянием ход развития искусства; а во-вторых, и они прочны только до поры до времени, т.-е. только при известных условиях. В тех случаях, когда данное племя оказывается вынужденным признать над собою превосходство другого, более развитого племени, его расовое самодовольство исчезает и вместо него является подражание чужим вкусам, прежде считавшимся смешными, а иногда и постыдными, отвратительными. Тут с дикарём происходит то же, что в цивилизованном обществе совершается с крестьянином, который сначала осмеивает нравы и костюмы горожан, а потом, — с возникновением и ростом господства города над деревней, — старается усвоить их по мере сил и возможности.
Переходя к историческим народам, укажем прежде всего на то, что в применении к ним слово раса вообще не может и не должно быть употребляемо. Мы не знаем ни одного исторического народа, который можно было бы назвать народом чистой расы; каждый из них является плодом чрезвычайно продолжительного и сильного взаимного скрещивания и смешения различных этнических элементов.
Извольте после этого определять влияние «расы» на историю идеологий у того или другого народа!
На первый взгляд кажется, что нет ничего проще и. правильнее мысли о влиянии естественной среды на народный темперамент, а через посредство темперамента на историю его умственного и эстетического развития. Но Лабриола достаточно было бы припомнить историю своей собственной страны, чтобы убедиться в ошибочности этой мысли. Современных итальянцев окружает та же естественная среда, в которой жили древние римляне, а между тем как мало похож «темперамент» современных нам данников Менелика на темперамент суровых победителей Карфагена! Если бы мы вздумали объяснять итальянским темпераментом историю, например, итальянского искусства, то мы очень скоро в недоумении остановились бы перед вопросом о тех причинах, благодаря которым темперамент с своей стороны очень глубоко изменялся в разные времена и в разных частях Апеннинского полуострова.
VII
Автор «Очерков гоголевского периода русской литературы» 14 говорит в одном из своих примечаний к первой книге политической экономии Д. С. Милля 15:
«Мы не скажем, чтобы раса не имела ровно никакого значения: развитие естественных и исторических наук не достигло ещё такой точности анализа, чтобы можно было в большей части случаев безусловно говорить: тут этого элемента абсолютно нет. Почему знать, быть может, в этом стальном пере есть частица платины: абсолютно отвергать этого нельзя. Можно знать одно: по химическому анализу в составе этого пера оказывается такое количество частиц несомненно не платиновых, что совершенно ничтожна часть, которая может принадлежать платине в его составе; и если бы эта часть существовала, на неё нельзя обращать никакого внимания с практической точки зрения... Если дело идёт о практическом действо-вании, поступайте с этим пером, как надо вообще поступать со стальными перьями. Точно так же не обращайте в практических делах внимания на расу людей, поступайте с ними просто как с людьми... Быть может, раса народа имела некоторое влияние на то, что известный народ находится ныне в таком, а не в ином состоянии; абсолютно нельзя отвергать этого, исторический анализ ещё не достиг математической, безусловной точности; после него, как и после нынешнего химического анализа, ещё остаётся небольшой, очень небольшой residuum, остаток, для которого нужны более тонкие способы исследования, ещё недоступные нынешнему состоянию науки. Но этот остаток очень мал. В образовании нынешнего положения каждого народа такая громадная часть принадлежит действию обстоятельств, не зависящих от природных племенных качеств, что если эти особенные, различные от общей человеческой натуры качества и существуют, то для их действия оставалось очень мало места, неизмеримо, микроскопически мало места».
Эти слова пришли нам на память, когда мы читали соображения Лабриола о влиянии расы на историю духовного развития человечества. Автор «Очерков гоголевского периода» интересовался вопросом о значении расы, главным образом, с практической точки зрения, но сказанное им должны были бы постоянно иметь в виду также и все те, которые занимаются чисто теоретическими исследованиями. Общественная наука чрезвычайно много выиграет, если мы оставим, наконец, дурную привычку сваливать на расу всё то, что кажется нам непонятным в духовной истории данного народа. Может быть, племенные свойства и имели некоторое влияние на эту историю. Но это гипотетическое влияние, наверное, было так неизмеримо мало, что в интересах исследования лучше признать его равным нулю и рассматривать особенности, замечаемые в развитии того или другого народа, как продукт особых исторических условий, в которых совершалось это развитие, а не как результат влияния расы. Разумеется, нам немало встретится случаев, в которых мы не в состоянии будем указать, каковы же именно были условия, вызвавшие заинтересовавшие нас особенности. Но то, что сегодня не поддаётся средствам научного исследования, завтра может уступить им. Ссылки же на расовые свойства неудобны тем, что они прекращают исследование как раз там, где оно должно было бы начаться. Отчего история французской поэзии непохожа на историю поэзии в Германии? По очень простой причине: темперамент французского народа был таков, что у него не могло быть ни Лессинга, ни Шиллера, ни Гёте. Ну, благодарим за объяснение; теперь мы всё понимаем.
Лабриола сказал бы, конечно, что он, как нельзя более, далёк от подобных, ничего не объясняющих объяснений. И это было бы верно. Вообще говоря, он прекрасно понимает всю их негодность и очень хорошо знает, с какой стороны надо подходить к решению задач вроде приведённой нами для примера. Но, признавая, что духовное развитие народов усложняется их расовыми свойствами, он тем самым рисковал ввести своих читателей в большое заблуждение и обнаружил готовность сделать, хотя бы и в незначительных частностях, некоторые вредные для общественной науки уступки старому образу мыслей. Вот против таких-то уступок и направлены наши замечания.
Мы не без основания называем старым оспариваемый нами взгляд на роль расы в истории идеологий. Он представляет собою простую разновидность той, очень распространённой в прошлом веке, теории, по которой весь ход истории объясняется свойствами человеческой природы. Материалистическое понимание истории совершенно несовместимо с этой теорией. Согласно новому взгляду, природа общественного человека изменяется вместе с общественными отношениями. Следовательно, общие свойства человеческой природы объяснить историю не могут. Горячий и убеждённый сторонник материалистического понимания истории, Лабриола признал, однако, до известной, хотя очень малой степени, также и правильность старого взгляда. Но немцы недаром говорят: Wer А sagt, muss audi В sagen . Признав правильность старого взгляда в одном случае, Лабриола должен был признать его и в некоторых других. Нужно ли говорить, что это соединение двух противоположных взглядов должно было повредить стройности его миросозерцания?
VIII
Организация всякого данного общества определяется состоянием его производительных сил. С изменением этого состояния непременно должна раньше или позже измениться и общественная организация. Следовательно, она находится в неустойчивом равновесии везде, где растут общественные производительные силы. Лабриола очень верно замечает, что именно эта неустойчивость, вместе с порождаемыми ею общественными движениями и борьбою общественных классов, предохраняет людей от умственного застоя. Антагонизм есть главная причина прогресса, говорит он, повторяя мысль одного очень известного немецкого экономиста 16. Но он тут же оговаривается. По его мнению, очень ошибочно было бы воображать, что люди всегда и во всех случаях хорошо понимают своё положение и ясно видят те общественные задачи, которые оно им ставит. «Думать так,— говорит он,— значит предполагать нечто невероятное, нечто никогда небывалое».
Мы просим читателя обратить большое внимание на эту оговорку. Лабриола развивает свою мысль следующим образом:
«Правовые формы, политические действия и попытки общественной организации были и бывают иногда удачны, а иногда ошибочны, т.-е. несоответственны положению, непропорциональны ему. История полна ошибок. Это значит, что если всё в ней было необходимо при данном умственном развитии тех, кому предстояло преодолеть известные трудности или решить известные задачи, и если всё в ней имеет свою достаточную причину, то не всё было разумно в смысле, придаваемом этому слову оптимистами. По прошествии некоторого времени, коренные причины всех общественных изменений, т.-е. изменившиеся экономические условия, приводили и приводят, иногда очень окольными путями, к таким формам права, к такому политическому устройству и к такой общественной организации, которые соответствуют новому положению. Но не надо думать, что инстинктивная мудрость мыслящего животного проявлялась и проявляется, sic et simpliciter , в ясном и полном понимании всех положений, и что, раз дана экономическая структура, мы можем очень простым логическим путём вывести из неё всё остальное. Невежеством,— которое может быть объяснено в свою очередь,— в значительной степени объясняется, почему история шла так, а не иначе. К невежеству надо прибавить грубые инстинкты, унаследованные человеком от своих предков — животных — и ещё далеко не вполне побеждённые, а также все страсти, все несправедливости и все различные виды испорченности,— всю лживость, всё лицемерие, всю наглость и всю подлость, — которые неизбежно должны были родиться и рождаются в обществе, основанном на подчинении человека человеку. Мы можем, не впадая в утопии, предвидеть, и мы, действительно, предвидим, появление в будущем такого общества, которое, развившись по законам исторического движения из современного общественного порядка, — и именно из противоречий этого порядка, — уже не будет знать антагонизма классов... Но это дело будущего, а не настоящего или прошлого времени. Со временем правильно организованное общественное производство освободит жизнь от господства слепой случайности, теперь же случайность является многообразной причиной всякого рода неожиданных происшествий и непредвиденного сплетения событий» .
Во всём этом много справедливого. Но, причудливо переплетаясь с заблуждением, сама истина принимает здесь вид не совсем удачного парадокса.
Лабриола безусловно прав, говоря, что люди далеко не всегда ясно понимают своё общественное положение и не всегда хорошо сознают те общественные задачи, которые из него вытекают. Но, когда он, основываясь на этом, ссылается на невежество или на суеверие, как на историческую причину возникновения многих форм общежития и многих обычаев, то, сам того не замечая, Он возвращается к точке зрения просветителей XVIII века. Прежде, чем указывать на невежество, как на одну из важных причин, объясняющих нам «почему история шла гак, а не иначе», следовало бы определить, в каком именно смысле может быть употреблено здесь это слово. Было бы очень большой ошибкой думать, что это понятно само собою. Нет, это вовсе не так понятно и не так просто, как кажется. Посмотрите на Францию XVIII века. Все мыслящие представители её третьего сословия горячо стремятся к свободе и равенству. Для достижения этой цели они требуют отмены многих устарелых общественных учреждений. Но отмена этих учреждений означала торжество капитализма, который, как это нам теперь очень хорошо известно, трудно назвать царством свободы и равенства. Поэтому можно сказать, что благородная цель философов прошлого века оказался недостигнутой. Можно сказать также, что философы не умели указать средства, необходимые для её достижения, можно обвинить их поэтому в невежестве.
как это и делали многие социалисты-утописты. Сам Лабриола поражается противоречием между действительной экономической тенденцией тогдашней Франции и идеалами её мыслителей. «Странное зрелище, странный контраст!» восклицает он. Но что же тут странного? И в чём заключалось «невежество» французских просветителей? В том, что они смотрели на средства достижения всеобщего благополучия не так, как смотрим мы в настоящее время? Но ведь тогда об этих средствах не могло быть и речи: — их ещё не создало историческое движение человечества, т.-е., — правильнее, — развитие его производительных сил. Прочтите «Doutes, proposes aux philosophes economistes» Мабли, прочтите «Code de la nature Морелли — вы увидите, что, поскольку эти писатели расходились с огромным большинством просветителей во взглядах на условия человеческого благополучия, поскольку они мечтали об уничтожении частной собственности, постольку они, во-первых, становились в явное и вопиющее противоречие с самыми существенными, самыми насущными и общенародными нуждами своей эпохи, а во-вторых, смутно сознавая это, они и сами считали свои мечты совершенно неосуществимыми. Следовательно, ещё раз — в чём же состояло невежество просветителей? В том, что они, сознавая общественные нужды своего времени и верно указывая способы их удовлетворения (отмена старых привилегий и проч.), приписывали этим способам крайне преувеличенное значение, т.-е. значение пути к всеобщему счастью? Это ещё не очень дикое невежество, а с практической точки зрения его надо признать даже и не бесполезным, так как чем более верили просветители в универсальное значение требуемых ими реформ, тем энергичнее они должны были их добиваться.
Несомненное невежество обнаружили просветители и в том смысле, что они не умели найти нить, связывающую их взгляды и стремления с экономическим положением тогдашней Франции, и даже не подозревали существования такой нити. Они смотрели на себя, как на глашатаев абсолютной истины. Мы знаем теперь, что абсолютной истины нет, что всё относительно, всё зависит от обстоятельств места и времени, но именно поэтому мы должны очень осторожно судить о «невежестве» различных исторических эпох. Их невежество, поскольку оно проявляется в свойственных им общественных движениях, стремлениях и идеалах, тоже относительно.
IX
Как возникают юридические нормы? Можно сказать, что всякая такая норма представляет собою отмену или видоизменение какой-нибудь старой нормы или какого-нибудь старого обычая. Почему отменяются старые нормы и старые обычаи? Потому, что они перестают соответствовать новым «-условиям», т.-е. новым фактическим отношениям, в которые люди становятся друр к другу в общественном процессе производства. Первобытный коммунизм исчез вследствие роста производительных сил. Но производительные силы растут лишь постепенно. Поэтому лишь постепенно растут и новые фактические отношения людей в общественном процессе производства. Поэтому лишь постепенно растёт и стеснительность старых норм или обычаев, а следовательно и потребность в придании соответственного юридического выражения новым фактическим (экономическим) отношениям людей. Инстинктивная мудрость мыслящего животного обыкновенно следует за этими фактическими изменениями. Если старые юридические нормы препятствуют известной части общества достигать своих житейских целей, удовлетворять свои насущные нужды, то эта часть общества непременно и чрезвычайно легко придёт к сознанию их стеснительности: для этого нужно немного больше мудрости, чем для сознания того, что неудобно носить слишком узкую обувь или чересчур тяжёлое оружие. Но от сознания стеснительности данной юридической нормы, конечно, ещё далеко до сознательного стремления к её отмене. Первоначально люди пытаются просто обходить её в каждом частном случае. Вспомните, как происходило дело у нас в больших крестьянских семьях, когда, под влиянием зарождавшегося капитализма, являлись новые источники заработка, неодинаковые для различных членов семьи. Обычное семейное право становилось тогда стеснительным для счастливцев, зарабатывающих больше других. Но эти счастливцы вовсе не так легко и не так скоро решились восстать против старого обычая. Долгое время они просто хитрили, скрывая от большаков часть заработанных денег. Но новый экономический порядок постепенно укреплялся, старый семейный быт всё более и более расшатывался; члены семьи, заинтересованные в его отмене, всё выше и выше поднимали голову; разделы всё учащались, и, наконец, старый обычай исчезал, уступая место новому обычаю, вызванному новыми условиями, новыми фактическими отношениями, новой экономикой общества.
Рост сознания людьми своего положения обыкновенно более или менее отстаёт от роста новых фактических отношений, изменяющих это положение. Но сознание всё-таки идёт за фактическими отношениями. Где слабо сознательное стремление людей к отмене старых учреждений и к установлению нового юридического порядка, там этот новый порядок ещё не вполне подготовлен общественною экономикой. Иначе сказать, в истории неясность сознания — «промахи незрелой мысли», «невежество» — нередко знаменуют собою только одно: именно, что ещё плохо развит предмет, который надо сознать, т.-е. новые нарождающиеся отношения. Ну, а невежество этого рода, — незнание и непонимание того, чего ещё нет, что находится ещё в процессе возникновения,— очевидно, есть лишь относительное невежество.
Есть другой род невежества — невежество по отношению к природе. Его можно назвать абсолютным. Мерой его является власть природы над человеком. А так как развитие производительных сил означает рост власти человека над природой, то ясно, что увеличение производительных сил означает уменьшение абсолютного невеже-, ства. Непонятые людьми и потому не подчинённые их власти явления природы порождают различные суеверия. На известной стадии общественного развития суеверные представления тесно переплетаются с нравственными и правовыми понятиями людей, которым они придают тогдасвоеобразный оттенок . В процессе борьбы,— вызываемой ростом новых фактических отношений людей в общественном процессе производства,— религиозные взгляды играют нередко большую роль. И новаторы, и охранители взывают к помощи богов, ставя под их защиту те или другие учреждения или даже объясняя эти учреждения выражением божественной воли. Понятно, что эвмениды, некогда считавшиеся у греков сторонницами материнского права, сделали для его защиты так же мало, как Минерва Для торжества будто бы любезной ей отцовской власти. Зовя к себе на помощь богов и фетишей, люди напрасно тратили свой труд и время, но невежество, позволявшее верить в эвменид, не мешало тогдашним греческим охранителям понимать, что старый юридический порядок (точнее, старое обычное право)' лучше гарантирует их интересы. Точно так же суеверие, позволявшее возлагать надежды на Минерву, не препятствовало новаторам сознавать неудобство старого быта.
Даяки на острове Борнео не знали употребления клина при рубке дров. Когда европейцы привезли его туда с собою, туземные власти торжественно запретили его употребление . Это было, повидимому, доказательством
вестно, обыкновенно сопровождается решительным подчинением религии как общественной морали, так и права» (т. II, стр. 82). Но в том-то и дело, что по Тэйлору 18 первобытный анимизм не имеет никакого влияния ни на мораль, ни на право. На этой стадии развития «между моралью и правом нет взаимного отношения или отношение это остаётся в зачатке». «Дикий анимизм почти совершенно лишён того нравственного элемента, который в глазах цивилизованного человека составляет сущность всякой практической религии... нравственные законы имеют своё особое основание» и т. д. La civilisation primitive, Paris 1876, t. II, pp. 464—465 (Первобытная культура, Париж 1876, т. II, стр. 464—465. — Ред.). Вот почему будет правильнее сказать, что религиозные суеверия переплетаются с нравственными и правовыми понятиями лишь на известной, сравнительно довольно высокой ступени общественного развития. Мы очень жалеем, что место не позволяет нам показать здесь, как объясняется это современным материализмом.
их невежества: что может быть бессмысленнее отказа от употребления орудия, облегчающего труд? Однако, подумайте, — и вы скажете, может быть, что для него можно найти смягчающие обстоятельства. Запрещение употреблять европейские орудия труда наверное было одним из проявлений борьбы против европейского влияния, которое начинало подрывать прочность старых туземных порядков. Туземные власти смутно сознавали, что при введении европейских обычаев от этого порядка ке останется камня на камне. Клин почему-то сильнее других европейских орудий напоминал им о разрушительном характере европейского влияния. И вот они торжественно запретили его употребление. Почему именно клин явился в их глазах символом опасных новшеств? На этот вопрос мы не можем ответить удовлетворительно: причина, по которой представление о клине ассоцииро-i валось в умах туземцев с представлением об опасности, грозящей их старому быту, нам неизвестна. Но мы можем с уверенностью сказать, что туземцы совсем не ошибались, опасаясь за прочность своего старого порядка: европейское влияние в самом деле очень быстро и сильно искажает,— если не разрушает,— обычаи подпавших под него дикарей и варваров.
Тэйлор говорит, что, громогласно осуждая употребление клина, даяки всё-таки пользовались им,, когда могли это сделать потихоньку от других. Вот вам и «лицемерие» вдобавок к невежеству. Но откуда оно взялось? Очевидно, оно было порождено сознанием преимуществ нового приёма рубки дров, которое сопровождалось боязнью общественного мнения или же преследования со стороны властей. Инстинктивная мудрость мыслящего животного критиковала, таким образом, ту самую меру, которая ей же была обязана своим происхождением. И она была права в своей критике: запретить употребление европейских орудий вовсе не значило устранить опасное европейское влияние.
Употребляя выражение Лабриола, мы могли бы сказать, что в данном случае даяки приняли меру, не соотч ветствовавшую их положению, непропорциональную ему. Мы были бы совершенно правы. И мы могли бы прибавить к этому замечанию Лабриола, что люди очень часто придумывают такие непропорциональные, несоответствующие положению меры. Но что же из этого следует? Только то, что мы должны стараться открыть, нет ли какой-нибудь зависимости между такого рода ошибками людей, с одной стороны, и характером или степенью раз-, вития их общественных отношений—с другой. Такая зависимость несомненно существует. Лабриола говорит, что невежество может быть объяснено в свою очередь. Мы скажем: не только может, но и должно быть объяснено, если только общественная наука в состоянии сделаться строгой наукой. Если «невежество» может быть объяснено общественными причинами, то нечего и ссылаться на него, нечего говорить, что в нём заключается разгадка того, почему история шла так, а не иначе. Разгадка лежит не в нём, а в общественных причинах, его породивших и придавших ему тот, а не другой вид, тот, а не другой характер. Зачем же вы будете ограничивать своё исследование простыми, ничего не объясняющими ссылками на невежество? Когда речь идёт о научном понимании истории, то ссылки на невежество свидетельствуют лишь о невежестве исследователя.
X
Всякая норма положительного права защищает известный интерес. Откуда берутся интересы? Представляют ли они собою продукт человеческой воли и человеческого сознания? Нет, они создаются экономическими отношениями людей. Раз возникнув, интересы так или иначе отражаются в сознании людей. Чтобы защищать известный интерес, нужно сознавать его. Поэтому всякую систему положительного права можно и должно рассматривать, как продукт сознания *. Не сознанием
* «Право не есть, подобно так называемым физическим, природным силам, нечто, существующее помимо действий человека... Напротив, это порядок, установленный людьми для себя. Подчиняется ли в своей деятельности человек закону причинности или действует свободно, произвольно, — в данном вопросе это безразлично. Как бы то ни было, право по закону причинности и по закону свободы всё же создаётся не помимо, а напротив, не иначе как через деятельность человека, через его посредство» (Н. М. Коркщов 19. «Лекци^ по общей теории права». С.-Петербург 1894, стр. 279). Это вполне справедливо, хотя и очень плохо выражено. Но г. Коркунов забыл прибавить, что интересы, защищаемые правом, не «создаются людьми для себя», а определяются их взаимными отношениями в общественном процессе производства!
людей вызываются к существованию те -интересы,- коточ рые право защищает, следовательно, не им определяется содержание права; но состоянием общественного сознания (общественной психологии) в данную эпоху определяется та форма, которую примет в человеческих головах отражение данного интереса. Не приняв в соображение состояния общественного сознания, мы совершенно не могли бы объяснить себе историю права.
В этой истории надо всегда и заботливо отличать форму от содержания. С формальной стороны право, поч добно всем другим идеологиям, испытывает на себе влияние всех, или, по крайней мере, некоторой части других идеологий: религиозных верований, философских понятий и проч. Уже одно это обстоятельство до известной, — иногда очень значительной, — степени затрудняет открытие зависимости, существующей между правовыми понятиями людей и их взаимными отношениями в общественном процессе производства. Но это ещё только полбеды . Настоящая же беда в том, что на различных стадиях общественного развития всякая данная идеология в очень неодинаковой степени испытывает на себе влияние других идеологий. Так, древнее египетское и отчасти римское право было подчинено религии; в но-: вейшей истории право развивалось (повторяем и просим заметить это: с формальной стороны) под сильным влиянием философии. Чтобы устранить влияние на право религии и заменить его своим собственным влиянием, философия должна была выдержать сильную борьбу. Эта борьба была лишь идеальным отражением общественной борьбы третьего сословия с духовенством, но она, тем не менее, в огромной степени затрудняла выработкуистинных взглядов на происхождение правовых учреждений, так как, благодаря ей, они казались явным и несомненным продуктом борьбы отвлечённых понятий. Разумеется, Лабриола, вообще говоря, прекрасно понип мает, какого рода фактические отношения скрываются за подобной борьбой понятий. Но, когда речь касается частностей, он слагает своё материалистическое оружие перед трудностью вопроса . и считает, как мы видели, возможным ограничиться ссылкой на невежество или силу традиций. Кроме того, он указывает ещё на «символизм», как на последнюю причину многих обычаев.
Символизм действительно немаловажный «фактор» в истории некоторых идеологий. Но в последние причины обычаев он не годится. Возьмём такой пример. У кавказского племени пшавов женщина обрезывает себе косу в случае смерти брата, но не делает этого, когда умрёт её муж. Обрезывание косы есть символическое действие: оно заменило более старый обычай принесения себя в жертву на могиле покойника. Но почему же женщина совершает это символическое действие на могиле брата, а не на могиле мужа? По словам г. М. Ковалевского, в этой черте «нельзя не видеть пережитка той отдалённой эпохи, когда главою родовой группы, объединённой фактом действительного или мнимого происхождения от женщины-родоначальницы, являлся старший по возрасту родственник по матери, ближайший когнат» . Из этого следует, что символические действия становятся понятными только тогда, когда мы понимаем смысл и происхождение знаменуемых ими отношений. Откуда ^ берутся эти отношения? Ответа на этот вопрос, конечно," надо искать не в символических действиях, хотя они иногда могут дать кое-какие полезные намёки. Происхождение- символического обычая обрезывания косы на могиле брата объясняется историей семьи, а объяснения истории семьи надо искать в истории экономического развития.
В заинтересовавшем нас случае обряд обрезывания косы на могиле брата пережил ту форму родственных отношений, которой он был обязан своим происхождением. Вот вам пример влияния традиции, на которое указывает Лабриола в своей книге. Но традиция может сохранить только то, что уже существует. Она не объясч няет не только происхождения данного обряда или вообще данной формы, но даже и её сохранения. Сила традиции есть сила инерции. В истории идеологий часто приходится задаваться вопросом, почему данный обряд или обычай сохранился, несмотря на то, что исчезли не только отношения, вызвавшие его к жизни, но и другие родственные ему обычаи или обряды, порождённые теми же отношениями. Вопрос этот равносилен вопросу о том, почему разрушительное действие новых отношений миновало именно этот обряд или обычай, устранив другие. Отвечать на этот вопрос ссылкой на силу традиции, значит ограничиться повторением его в утвердительной форме. Как же помочь горю? Надо обратиться к общественной психологии.
Старые обычаи исчезают, старые обряды нарушаются тогда, когда люди становятся в новые взаимные отношения. Борьба общественных интересов выражается в виде борьбы новых обычаев и обрядов со старыми. Ни один символический обряд или обычай, взятый сам по себе, не может влиять ни в положительном, ни в отрицательном смысле на развитие новых отношений. Если охранители горячо отстаивают старые обычаи, то это потому, что в их уме представление о выгодных, дорогих и привычных им общественных порядках прочно связывается (ассоциируется) с представлением об этих обычаях. Если новаторы ненавидят и осмеивают эти обычаи, то это потому, что в их уме представление об этих обычаях ассоциируется с представлением о стеснительных, невыгодных и неприятных для них общественных отношениях. Следовательно, тут всё дело в ассоциации идей. Когда мы видим, что какой-нибудь обряд пережил не только породившие его отношения, но и родственные ему обряды, вызванные теми же отношениями, то мы должны заключить, что в умах новаторов представление о нём было не так сильно связано с представлением о ненавистной старине, как представление о других обычаях. Почему же не так сильно? Ответить на такой вопрос иногда легко, а иногда совсем невозможно по недостатку необходимых психологических данных. Но даже и в тех случаях, когда мы вынуждены признать его неразрешимым, по крайней мере, при нынешнем состоянии наших знаний, мы должны помнить, что дело тут не в силе традиции, а в известных ассоциациях идей, вызванных известными фактическими отношениями людей в обществе.
Возникновением, изменением и разрушением ассоциаций идей под влиянием возникновения, изменения и разрушения известных комбинаций общественных сил в значительной степени объясняется история идеологий. Лабриола не обратил на эту сторону дела всего того внимания, какого она заслуживает. Это хорошо обнаруживается его взглядом на философию.
XL
По мнению Лабриола, философия в своём историческом развитии частью сливается с теологией, а частью представляет собою развитие человеческой мысли в её отношении к предметам, входящим в круг нашего опыта. Поскольку она отлична от теологии, она занимается теми же задачами, на решение которых направляется научное исследевание, собственно так называемое. При этом она или стремится опередить науку, давая свои собственные гадательные решения, или просто резюмирует и подвергает дальнейшей логической обработке решения, уже найденные наукой. И это, конечно, справедливо. Но здесь ещё не вся истина. Возьмём новую философию. Декарт и Бэкон считают важнейшим делом философии умножение естественно-научных знаний с целью увеличения власти человека над природой. В их время философия занимается, следовательно, как раз теми самыми задачами, которые составляют предмет естественных наук. Можно думать поэтому, что даваемые ею решения определяются состоянием естествознания. Однако, это не совсем так. Тогдашнее состояние естественных наук не может объяснить нам отношения Декарта к некоторым философским вопросам, например, к вопросу о душе и т. п., но это отношение хорошо объясняется общественным состоянием тогдашней Франции. Декарт строго разделяет область веры от области разума. Его философия не противоречит католицизму, а, напротив, старается подтвердить новыми соображениями некоторые его догматы. В этом случае она хорошо выражает собою тогдашнее настроение французов. После продолжительных и кровавых волнений XVI века во Франции является всеобщее стремление к миру и порядку20. В области политики это стремление выражается сочувствием к абсолютной "монархии; в области мысли — известной религиозной терпимостью и стремлением избегать тех спорных вопросов, которые напоминали бы о недавней граж-длнекой войне. Такими вопросами были религиозные вопросы. Чтобы не касаться их, надо было разграничить область веры от области разума. Это и было сделано, кпк мы сказали, Декартом. Но такого разграничения было недостаточно. В интересах общественного мира философия должна была торжественно признать правильность религиозного догмата. В лице Декарта она сделала и это. И вот почему система этого мыслителя, бывшая, по крайней мере, на три четверти материалистической системой, сочувственно встречена была многими духовными лицами.
Из философии Декарта логически вышел материализм Ламеттри. Но из неё с таким же правом могли быть сделаны и идеалистические выводы. Если французы их не сделали, то на это была совершенно определённая общественная причина: отрицательное отношение третьего сословия к духовенству во Франции XVII[ века. Если философия Декарта выросла из стремления к общественному миру, то материализм XVIII века предвещал собою новые общественные потрясения.
Уже из этого видно, что развитие философской мысли во Франции объясняется не только развитием естествознания, но также и непосредственным влиянием на неё развивающихся общественных отношений. Ещё более обнаруживается это при внимательном взгляде на историю" французской философии с другой стороны.
Мы уже знаем, что главной задачей философии Декарт считал увеличение власти человека над природой. Французский материализм XVIII века считает своей важнейшей обязанностью замену известных старых понятий новыми, на основе которых могли бы быть построены нормальные общественные отношения. Об увеличении общественных производительных сил у французских материалистов почти нет и речи. Это очень существенная разница. Откуда она взялась?
Развитие производительных сил во Франции XVIII века чрезвычайно сильно стеснялось устарелыми общественными отношениями производства, архаическими общественными учреждениями. Устранить эти учреждения было безусловно необходимо в интересах дальнейшего развития производительных сил. В их устранении заключался весь смысл тогдашнего общественного движения во Франции. В философии необходимость такого устранения выразилась в виде борьбы против устарелых отвлечённых понятий, выросших на почве устарелых отношений производства.
В эпоху Декарта эти самые отношения далеко ещё не были устарелыми; они, вместе с другими общественными учреждениями, выросшими на их почве, не мешали развитию производительных сил, а способствовали ему. Поэтому об их устранении никто тогда и не думал. Вот почему философия ставила прямо перед собою задачу увеличения производительных сил, эту важнейшую практическую задачу нарождавшегося буржуазного общества.
Мы говорим это, возражая Лабриола. Но, может быть, наши возражения излишни; может быть, он только неточно выразился, а в сущности согласен с нами? Мы были бы очень рады этому, всякому приятно, когда с ним соглашаются умные люди.
!А если бы он не согласился с нами, мы с сожалением повторили бы, что этот умный человек ошибается. Этим мы, может быть, подали бы нашим субъективным старичкам 21 повод лишний раз похихикать насчёт того, что между сторонниками материалистического понимания истории трудно отличить «настоящих» от «ненастоящих». Но мы ответили бы субъективным старичкам, что они «над собою смеются». Человеку, который сам хорошо усвоил смысл философской системы, легко отличить истинных её последователей от ложных. Если бы гг. субъективисты дали себе труд продумать материалистическое объяснение истории, то они сами знали бы — где настоящие «ученики», а где самозванцы, всуе приемлющие великое имя. Но так как этого труда они себе не дали и не дадут, то они по необходимости останутся при одном недоумении. Это общая судьба всех отсталых, выбывших из действующей армии прогресса. Кстати о прогрессе. Помните ли вы, читатель, то время, когда «метафизики» подвергались поруганию, философия изучалась «по Льюису» 22 и отчасти по «учебнику уголовного права» г. Спасовича, и когда для «прогрессивных» читателей были придуманы особые «формулы», чрезвычайно простые и понятные даже для детей младшего возраста? Славное это было время! Оно прошло, это время, исчезло, как дым. «Метафизика» опять начинает привлекать к себе русские умы, «Льюис» выходит из употребления, а пресловутые формулы прогресса всеми забываются. Теперь даже сами субъективные социологи,— ставшие уже «почтенными» и «маститыми»,— чрезвычайно редко вспоминают об этих формулах. Замечательно, например, что о них никто и не вспомнил именно в ту пору, когда в них была, повидимому, самая крайняя надобность, т.-е. когда у нас заспорили о том, можно ли нам с пути капитализма свернуть на путь утопии. Наши утописты спрятались за спину человека, который, защищая фантастическое «народное производство», в то же время выдавал себя за сторонника современного диалектического материализма 23. Софистициро-ванный диалектический материализм оказался таким образом единственным заслуживающим внимания оружием в руках утопистов. Ввиду этого было бы очень полезно поговорить о том, как смотрят на «прогресс» сторонники материалистического понимания истории. Правда, об этом было уже не раз говорено в нашей печати. Но, во-первых, современный материалистический взгляд на прогресс многим всё ещё неясен, а, во-вторых, у Лабриола он иллюстрируется некоторыми очень удачными примерами и поясняется некоторыми очень справедливыми соображениями, хотя, к сожалению, всё-таки не излагается систематически и во всей полноте. Соображения Лабриола должны быть пополнены. Мы надеемся сделать это в более свободную минуту, а теперь нам пора кончать.
Но прежде чем положить перо, мы ещё раз просим читателя помнить, что так называемый экономический материализм, против которого направляются,— очень неубедительные к тому же,— возражения наших гг. народников и субъективистов, имеет очень мало общего с современным материалистическим пониманием истории.
С точки зрения теории факторов человеческое общество представляется тяжёлою кладью, которую различные «силы» — мораль, право, экономика и т. д. и т. д. — тащат каждая с своей стороны по историческому пути. С точки зрения современного материалистического понимания истории дело принимает совсем другой вид. Исторические «факторы» оказываются простыми абстракциями, и, когда исчезает их туман, становится ясно, что люди делают не несколько отдельных одна от другой историй — историю права, историю морали, философии и т. д., — а одну только историю своих собственных общественных отношений, обусловливаемых состоянием производительных сил в каждое данное время. Так называемые идеологии представляют собою лишь многообразные отражения в умах людей этой единой и нераздельной истории.
Ссылки
Антонио Лабриола, профессор римского университета. Очерки материалистического понимания истории, с предисловием Ж. Сореля. Париж 1897. — Ред.
«Экономическая теория политического устройства». — Ред.
«Экономическое толкование истории». — Ред.
Лабриола даёт ему заимствованное у Энгельса название —• исторический материализм.
—«наша натуралистическая доктрина истории». — Ред.
— материнский род. — Ред.
В первом издании: «не может ограничиться Изучением одной экономической анатомии общества». — Ред.
.Один из халдейских царей говорит о себе: «Я изучил тайны
Как оно не мешает ему быть также в некоторых случаях и плодом завоевания одного народа другим. Роль насилия очень велика при смене одних учреждений другими. Но как самая возможность подобной смены, так и её общественные результаты насилием нимало не объясняются.
Обо всём этом см. во введении к истории искусства Вильгельма, Любке (есть русский перевод).
Об этом см. у Дарвина — Descent of man, London 1883, pp. 582—585 (Происхождение человека, Лондон 1883, стр. 582— 585. — Ред.).
Кто говорит А, должен также сказать Б. — Pea.
— Просто и непосредственно. — Ред.
Essais, pp. 183—185 (Очерки, стр. 183—185. — Ред.).
«Сомнения, предложенные философам-экономистам». — Ред.
«Сомнения, предложенные философам-экономистам». — Ред.
В своей книге «Закон и обычай на Кавказе» М. М. Ковалевский 17 говорит: «Разбор религиозных верований и суеверий пшавов приводит нас к тому заключению, что под официальным покровом православия народ этот доселе стоит на той стадии развития, которая так удачно названа Тэйлором анимизмом. Эта стадия, как из
Е. В. Tylor, La civilisation primitive, Paris 1876, t. I, p. 82 (Э. Б. Тэйлор. Первобытная культура, Париж 1876, т. I, стр. 82.— Ред.).
Хотя и это очень невыгодно отзывается даже, например, на таких сочинениях, как «Закон и обычай на Кавказе» г. М. Ковалевского. Г-н М. Ковалевский часто рассматривает там право, как продукт религиозных взглядов. Правильный путь исследования был бы иной: г. Ковалевскому следовало взглянуть и на религиозные верования, и на правовые учреждения кавказских народов, как на продукт их общественных отношений в процессе производства, и, выяснив влияние одной идеологии на другую, постараться найти единственную причину этого влияния. Г-н Ковалевский, повиди-мому, тем больше должен был бы склоняться к такому способу исследования, что он сам в других своих сочинениях категорически признаёт причинную зависимость правовых норм от способов производства. •
«Закон и обычай на Кавказе», т. II, стр. 75,