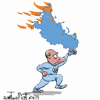Дома дверь ей отпер
Николай, растрепанный, с книгой в руках.
- Уже? - воскликнул он радостно. - Скоро вы!
Глаза его ласково и живо мигали под очками, он помогал ей раздеваться
и, с ласковой улыбкой заглядывая в лицо, говорил:
- А у меня ночью, видите ли, обыск был, я подумал - какая причина? Не
случилось ли чего с вами? Но - не арестовали. Ведь если бы вас арестовали,
так и меня не оставили бы!..
Он ввел ее в столовую,
оживленно продолжая:
- Однако - теперь прогонят со службы. Это - не огорчает. Мне надоело
считать безлошадных крестьян!
Комната имела такой вид, точно кто-то сильный, в глупом припадке озорства,
толкал с улицы в стены дома, пока не растряс все внутри его. Портреты
валялись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями, в одном месте
приподнята доска пола, выворочен подоконник, на полу у печи рассыпана
зола. Мать покачала головой при виде знакомой картины и пристально посмотрела
на Николая, чувствуя в нем что-то новое.
На столе стоял
погасший самовар, немытая посуда, колбаса и сыр на бумаге вместо тарелки,
валялись куски и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Мать усмехнулась,
Николай тоже сконфуженно улыбнулся.
- Это уж я дополнил картину погрома, но ничего, Ниловна, ничего! Я думаю,
они опять придут, оттого и не убирал все это. Ну, как вы съездили?
Вопрос тяжело толкнул ее в грудь - перед нею встал Рыбин, и она почувствовала
себя виноватой, что сразу не заговорила о нем. Наклонясь на стуле, она
подвинулась к Николаю и, стараясь сохранить спокойствие, боясь позабыть
что-нибудь, начала рассказывать.
- Схватили его... Лицо Николая дрогнуло.
- Да?
Мать остановила
его вопрос движением руки и продолжала так, точно она сидела пред лицом
самой справедливости, принося ей жалобу на истязание человека. Николай
откинулся на спинку стула, побледнел и, закусив губу, слушал. Он медленно
снял очки, положил их на стол, провел по лицу рукой, точно стирая с
него невидимую паутину. Лицо его сделалось острым, странно высунулись
скулы, вздрагивали ноздри, - мать впервые видела его таким, и он немного
пугал ее.
Когда она кончила,
он встал, с минуту молча ходил по комнате, сунув кулаки глубоко в карманы.
Потом сквозь зубы пробормотал:
- Крупный человек, должно быть. Ему будет трудно в тюрьме, такие, как
он, плохо чувствуют себя там!
Он все глубже прятал руки, сдерживая свое волнение, но все-таки оно
чувствовалось матерью и передавалось ей. Глаза у него стали узкими,
точно концы ножей. Снова шагая по комнате, он говорил холодно и гневно:
- Вы посмотрите, какой ужас! Кучка глупых людей, защищая свою пагубную
власть над народом, бьет, душит, давит всех. Растет одичание, жестокость
становится законом жизни - подумайте! Одни бьют и звереют от безнаказанности,
заболевают сладострастной жаждой истязаний – отвратительной болезнью
рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабьих чувств и скотских
привычек. Другие отравляются местью, третьи, забитые до отупения, становятся
немы и слепы. Народ развращают, весь народ!
Он остановился
и замолчал, стиснув зубы.
- Невольно сам звереешь в этой звериной жизни! - тихо сказал он.
Но, овладев своим возбуждением, почти спокойно, с твердым блеском в
глазах, взглянул в лицо матери, залитое безмолвными слезами.
- Нам, однако, нельзя терять времени, Ниловна! Давайте, дорогой товарищ,
попробуем взять себя в руки...
Грустно улыбаясь,
он подошел к ней и, наклонясь, спросил, пожимая ее руку:
Где ваш чемодан?
В кухне! - ответила она.
У наших ворот стоят шпионы - такую массу бумаги мы не сумеем вынести
из дому незаметно, - а спрятать негде, а я думаю, они снова придут сегодня
ночью. Значит, как ни жаль труда - мы сожжем все это.
- Что? - спросила мать.
- Все, что в чемодане.
Она поняла его, и - как ни грустно было ей - чувство гордости своею
удачей вызвало на лице у нее улыбку.
- Ничего там нет, ни листика! - сказала она и, постепенно оживляясь,
начала рассказывать о своей встрече с Чумаковым. Николай слушал ее,
сначала беспокойно хмуря брови, потом с удивлением и наконец вскричал,
перебивая рассказ:
- Слушайте, - да это отлично! Вы удивительно счастливый человек...
Стиснув ее руку,
он тихо воскликнул:
- Вы так трогаете вашей верой в людей... я, право, люблю вас, как мать
родную!..
Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним, хотела понять - отчего
он стал такой яркий и живой?
- Вообще - чудесно! - потирая руки, говорил он и смеялся тихим, ласковым
смехом. - Я, знаете, последние дни страшно хорошо жил - все время с
рабочими, читал, говорил, смотрел. И в душе накопилось такое - удивительно
здоровое, чистое. Какие хорошие люди, Ниловна! Я говорю о молодых рабочих
- крепкие, чуткие, полные жажды все понять. Смотришь на них и видишь
- Россия будет самой яркой демократией земли!
Он утвердительно
поднял руку, точно давал клятву, и, помолчав, продолжал:
- Я сидел тут, писал и - как-то окис, заплесневел на книжках и цифрах.
Почти год такой жизни - это уродство. Я ведь привык быть среди рабочего
народа, и, когда отрываюсь от него, мне делается неловко, - знаете,
натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни. А теперь снова могу жить свободно,
буду с ними видеться, заниматься. Вы понимаете - буду у колыбели новорожденных
мыслей, пред лицом юной, творческой энергии. Это удивительно просто,
красиво и страшно возбуждает, - делаешься молодым и твердым, живешь
богато!
Он засмеялся смущенно
и весело, и его радость захватывала сердце матери, понятная ей.
- А потом - ужасно вы хороший человек! - воскликнул Николай. - Как вы
ярко рисуете людей, как хорошо их видите!.. Николай сел рядом с ней,
смущенно отвернув в сторону радостное лицо и приглаживая волосы, но
скоро повернулся и, глядя на мать, жадно слушал ее плавный, простой
и яркий рассказ.
- Удивительная удача! - воскликнул он. - У вас была полная возможность
попасть в тюрьму, и - вдруг! Да, видимо, пошевеливается крестьянин,
- это естественно, впрочем! Эта женщина - удивительно четко вижу я ее!..
Нам нужно пристроить к деревенским делам специальных людей. Людей! Их
не хватает нам... Жизнь требует сотни рук...
- Вот бы Паше-то
выйти на волю. И - Андрюше! - тихонько сказала она.
Он взглянул на нее и опустил голову.
- Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слышать, но я все-таки скажу:
я хорошо знаю Павла - из тюрьмы он не уйдет! Ему нужен суд, ему нужно
встать во весь рост, - он от этого не откажется. И не надо! Он уйдет
из Сибири.
Мать вздохнула
и тихо ответила:
- Ну, что же? Он знает, как лучше...
- Гм! - говорил Николай в следующую минуту, глядя на нее через очки.
- Кабы этот ваш мужичок поторопился прийти к нам! Видите ли, о Рыбине
необходимо написать бумажку для деревни, ему это не повредит, раз он
ведет себя так смело. Я сегодня же напишу, Людмила живо ее напечатает...
А вот как бумажка попадет туда?
- Я свезу...
- Нет, благодарю! - быстро воскликнул Николай. - Я думаю - не годится
ли Весовщиков для этого, а?
- Поговорить с ним?
- Вот попробуйте-ка! И поучите его.
- А что же я-то буду делать?
- Не беспокойтесь!
Он сел писать.
Она прибирала на столе, поглядывая на него, видела, как дрожит перо
в его руке, покрывая бумагу рядами черных слов. Иногда кожа на шее у
него вздрагивала, он откидывал голову, закрыв глаза, у него дрожал подбородок.
Это волновало ее.
- Вот и готово! - сказал он, вставая. - Вы спрячьте эту бумажку где-нибудь
на себе. Но - знайте, если придут жандармы, вас тоже обыщут.
- Пес с ними! - спокойно ответила она.
Вечером приехал
доктор Иван Данилович.
- Почему это начальство вдруг так обеспокоилось? - говорил он, бегая
по комнате. - Семь обысков было ночью. Где же больной, а?
- Он ушел еще вчера! - ответил Николай. - Сегодня, видишь ли, суббота,
у него чтение, так он не может пропустить...
- Ну, это глупо, с расколотой головой на чтениях сидеть...
- Доказывал я ему, но безуспешно...
- Похвастаться охота перед товарищами, - заметила мать, - вот, мол,
глядите - я уже кровь свою пролил...
Доктор взглянул
на нее, сделал свирепое лицо и сказал, стиснув зубы:
- У-у, кровожадная...
- Ну, Иван, тебе здесь делать нечего, а мы ждем гостей - уходи! Ниловна,
дайте-ка ему бумажку...
- Еще бумажка? - воскликнул доктор.
- Вот! Возьми и передай в типографию.
- Взял. Передам. Все?
- Все. У ворот - шпион.
- Видел. У моей двери тоже. Ну, до свиданья! До свиданья, свирепая женщина.
А знаете, друзья, драка на кладбище - хорошая вещь в конце концов! О
ней говорит весь город. Твоя бумажка по этому поводу - очень хороша
и поспела вовремя. Я всегда говорил, что хорошая ссора лучше худого
мира...
- Ладно, ты иди...
- Не весьма любезно! Ручку, Ниловна! А паренек поступил глупо все-таки.
Ты знаешь, где он живет? Николай дал адрес.
- Завтра надо съездить к нему, - славный ребятенок, а?
- Очень...
- Надо его поберечь, - у него мозги здоровые! - говорил доктор, уходя.
- Именно из таких ребят должна вырасти истинно пролетарская интеллигенция,
которая сменит нас, когда мы отыдем туда, где, вероятно, нет уже классовых
противоречий...
- Ты стал много болтать, Иван...
- А - мне весело, это потому. Значит - ожидаешь тюрьмы? Желаю тебе отдохнуть
там.
- Благодарю. Я не устал.
Мать слушала их
разговор, и ей была приятна забота о рабочем.
Проводив доктора, Николай и мать стали пить чай и закусывать, ожидая
ночных гостей и тихо разговаривая. Николай долго рассказывал ей о своих
товарищах, живших в ссылке, о тех, которые уже бежали оттуда и продолжают
свою работу под чужими именами. Голые стены комнаты отталкивали тихий
звук его голоса, как бы изумляясь и не доверяя этим историям о скромных
героях, бескорыстно отдавших свои силы великому делу обновления мира.
Теплая тень ласково окружала женщину, грея сердце чувством любви к неведомым
людям, и они складывались в ее воображении все - в одного огромного
человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно
идет по земле, очищая с нее влюбленными в свой труд руками вековую плесень
лжи, обнажая перед глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая
правда, воскресая, всех одинаково приветно зовет к себе, всем равно
обещает свободу от жадности, злобы и лжи - трех чудовищ, которые поработили
и запугали своей циничной силой весь мир... Этот образ вызывал в душе
ее чувство, подобное тому, с которым она, бывало, становилась перед
иконой, заканчивая радостной и благодарной молитвой тот день, который
казался ей легче других дней ее жизни. Теперь она забыла эти дни, а
чувство, вызываемое ими, расширилось, стало более светлым и радостным,
глубже вросло в душу и, живое, разгоралось все ярче.
- А жандармы не
идут! - вдруг прерывая свой рассказ, воскликнул Николай.
Мать взглянула на него и, помолчав, с досадой отозвалась:
- Ну их ко псам!
- Разумеется! Но - вам пора спать, Ниловна, вы, должно быть, отчаянно
устали, - удивительно крепкая вы, следует сказать! Сколько волнений,
тревог - и так легко вы переживаете все! Только вот волосы быстро седеют.
Ну, идите, отдыхайте.
Мать
проснулась, разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно,
с терпеливым упорством. Было еще темно, тихо, и в тишине упрямая дробь
стука вызывала тревогу. Наскоро одевшись, мать быстро вышла в кухню
и, стоя перед дверью, спросила:
- Кто там?
- Я! - ответил незнакомый голос.
- Кто?
- Отоприте! - просительно и тихо ответили из-за двери. Мать подняла
крючок, толкнула дверь ногой - вошел Игнат и радостно сказал:
- Ну, - не ошибся!
Он был по пояс забрызган грязью, лицо у него посерело, глаза ввалились,
и только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под
шапки.
- У нас - беда! - заперев дверь, шепотом произнес он.
- Я знаю...
Это
удивило парня. Мигнув глазами, он спросил:
- Откуда?
Она кратко и торопливо рассказала.
- А тех двух взяли? Товарищей-то?
- Их - не было. Они на явку пошли, - рекрута! Пятерых взяли, считая
дядю Михаила...
Он потянул воздух носом и, ухмыляясь, сказал:
- А я - остался. Должно - ищут меня.
- Как же ты уцелел? - спросила мать. Дверь из комнаты тихо приотворилась.
- Я? - сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул Игнат. - За минуту перед
ними лесник прибег - стучит в окно, - держитесь, ребята, говорит, лезут
на вас...
Он
тихонько засмеялся, вытер лицо полой кафтана и продолжал:
- Ну - дядю Михаила и молотком не оглушишь. Сейчас он мне: "Игнат
- в город, живо! Помнишь женщину пожилую?" А сам записку строчит.
"На, иди!.." Я ползком, кустами, слышу - лезут! Много их,
со всех сторон шумят, дьяволы! Петлей вокруг завода. Лег в кустах, -
прошли мимо! Тут я встал и давай шагать, и давай! Две ночи шел и весь
день без отдыха.
Видно было, что он доволен собой, в его карих глазах светилась улыбка,
крупные красные губы вздрагивали.
- Сейчас я тебя чаем напою! - торопливо говорила мать, схватив самовар.
- Вы записку-то получите...
Он с трудом поднял ногу, морщась и покрякивая поставил на лавку.
В
дверях явился Николай.
- Здравствуйте, товарищ! - сказал он, щуря глаза. - Позвольте, я вам
помогу.
И, наклонясь, стал быстро разматывать грязную онучу.
- Ну, - тихо воскликнул парень, дергая ногой, и, удивленно мигая глазами,
поглядел на мать.
Не замечая его взгляда, она сказала:
- Надо ему водкой ноги-то растереть...
- Конечно! - молвил Николай.
Игнат смущенно фыркнул. Николай нашел записку, расправил ее и, приблизив
серую, измятую бумажку к лицу, прочитал:
"Не оставляй дела, мать, без внимания, скажи высокой барыне, чтобы
не забывала, чтобы больше писали про наши дела, прошу. Прощай. Рыбин".
Николай
медленно опустил руку с запиской и негромко молвил:
- Это великолепно!..
Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными пальцами разутой ноги;
мать, скрывая лицо, смоченное слезами, подошла к нему с тазом воды,
села на пол и протянула руки к его ноге - он быстро сунул ее под лавку,
испуганно воскликнув:
- Чего?
- А ты давай скорее ногу...
- Сейчас я принесу спирт, - сказал Николай.
Парень засовывал ногу все дальше под лавку и бормотал:
- Что вы? В больнице, что ли...
Тогда она начала разувать другую.
Игнат
громко сапнул носом и, неуклюже двигая шеей, смотрел на нее сверху вниз,
смешно распустив губы.
- Ты знаешь, - заговорила она вздрагивающим голосом, - били Михаила
Ивановича...
- Ну? - тихо и пугливо воскликнул парень.
- Да. И привели его избитого, и в Никольском урядник бил, становой –
и по лицу и пинками... в кровь!
- Они это умеют! - отозвался парень, хмуря брови. Плечи у него вздрогнули.
- То есть боюсь я их - как чертей! А мужики - не били?
- Один ударил, становой приказал ему. А все - ничего, вступились даже
- нельзя, говорят, бить...
- Н-да-а, - мужики-то начинают понимать, где кто стоит и зачем.
- Там тоже есть разумные...
- Где их нет? Нужда! Везде они есть - найти трудно. Николай принес бутылку
спирта, положил углей в самовар и молча ушел. Проводив его любопытными
глазами, Игнат спросил мать тихонько:
- Барин-то - доктор?
- В этом деле нет господ, все - товарищи...
- Чудно мне! - сказал Игнат, недоверчиво и растерянно улыбаясь.
- Что - чудно?
- Да - так. На одном конце рожи бьют, на другом - ноги моют, а в середине
- что?
Дверь
из комнаты распахнулась, и Николай, стоя на пороге, сказал:
- А в середине люди, которые лижут руки тем, кто рожи бьет, и сосут
кровь тех, чьи рожи бьют, - вот середина!
Игнат уважительно взглянул на него и, помолчав, проговорил:
- Это - похоже!
Парень встал, переступил с ноги на ногу, твердо упираясь ими в пол,
и заметил:
- Как новые стали! Спасибо вам... Потом сидели в столовой и пили чай,
а Игнат рассказывал солидным голосом:
- Я разносчиком газеты был, ходить я очень здоров.
- Много народа читает? - спросил Николай.
- Все, которые грамотные, даже богачи читают, - они, конечно, не у нас
берут... Они ведь понимают - крестьяне землю своей кровью вымоют из-под
бар и богачей, - значит, сами и делить ее будут, а уж они так разделят,
чтобы не было больше ни хозяев, ни работников, - как же! Из-за чего
и в драку лезть, коли не из-за этого!
Он
даже как бы обиделся и смотрел на Николая недоверчиво, вопросительно.
Николай молча улыбался.
- А ежели сегодня подрались всем миром - одолели, значит - а завтра
опять - один богат, а другой беден, - тогда - покорно благодарю! Мы
хорошо понимаем - богатство, как сыпучий песок, оно смирно не лежит,
а опять потечет во все стороны! Нет, уж это зачем же!
- А ты не сердись! - шутя сказала мать. Николай задумчиво воскликнул:
- Как бы нам поскорее направить туда листок об аресте Рыбина!
Игнат насторожился.
- А есть листок? - спросил он.
- Да.
- Давайте - я снесу! - предложил парень, потирая руки. Мать тихонько
засмеялась, не глядя на него.
- Да ведь устал ты и боишься, сказал? Игнат, приглаживая широкой ладонью
кудрявые волосы на голове, деловито и спокойно сказал:
- Страх - страхом, а дело - делом! Вы чего насмехаетесь? Ишь вы, тоже!
- Эх ты, - дитя ты мое! - невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству
радости, вызванному им. Он ухмыльнулся, сконфуженный.
- Ну вот - дитя!
Заговорил
Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами: - Вы не
пойдете туда...
- А - что? Куда же я? - беспокойно спросил Игнат.
- Вместо вас пойдет другой, а вы ему подробно расскажете, что надо делать
и как - хорошо?
- Ладно! - сказал Игнат, не вдруг и неохотно.
- А вам мы достанем хороший паспорт и устроим вас лесником.
Парень быстро вскинул голову и спросил, обеспокоенный:
- А ежели мужики за дровами приедут или там... вообще, - как же я? Вязать?
Это - не подойдет мне...
Мать
засмеялась и Николай тоже, это снова смутило и огорчило парня.
- Не беспокойтесь! - утешил его Николай. - Не придется вам вязать мужиков,
- уж поверьте!..
- Ну то-то! - молвил Игнат и успокоился, весело улыбаясь. - Мне бы вот
на фабрику, там, говорят, ребята довольно умные...
Мать поднялась из-за стола и, задумчиво глядя в окна, проговорила:
- Эх, жизнь! Пять раз в день насмеешься, пять наплачешься! Ну, кончил,
Игнатий? Иди спать...
- Да я не хочу...
- Иди, иди...
- Строго у вас! Ну, иду... Спасибо за чай-сахар, за ласку...
Ложась на постель матери, он бормотал, почесывая голову:
- Теперь ото всего дегтем будет вонять у вас... эх! Напрасно все это...
Спать мне не хочется... Как он насчет середины-то хватил... Черти...
И, вдруг громко всхрапнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв
рот.
Вечером он сидел
в маленькой комнатке подвального этажа на стуле против Весовщикова и
пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему:
- В среднее окошко четыре раза...
- Четыре? - озабоченно повторил Николай.
- Сначала - три, вот так!
И ударил согнутым пальцем по столу, считая:
- Раз, два три. Потом, обождав, еще раз.
- Понимаю.
- Отопрет рыжий мужик, спросит - за повитухой? Вы скажете - да, от заводчика!
Больше ничего, уж он поймет!
Они сидели, наклонясь
друг к другу головами, оба плотные, твердые, и, сдерживая голоса, разговаривали,
а мать, сложив руки на груди, стояла у стола, разглядывая их. Все эти
тайные стуки, условные вопросы и ответы заставляли ее внутренне улыбаться,
она думала: "Дети еще..."
На стене горела лампа, освещая на полу измятые ведра, обрезки кровельного
железа. Запах ржавчины, масляной краски и сырости наполнял комнату.
Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мохнатой материи, и оно ему
нравилось, мать видела, как любовно гладил он ладонью рукав, как осматривал
себя, тяжело ворочая крепкой шеей. И в груди ее мягко билось:
"Дети! Родные мои..."
- Вот! - сказал Игнат, вставая. - Значит, помните - сначала к Муратову,
спросите дедушку...
- Запомнил! - ответил Весовщиков. Но Игнат, по-видимому, не поверил
ему, снова повторил все стуки, слова и знаки и наконец протянул руку.
- Кланяйтесь им! Народы хорошие - увидите... Он окинул себя довольным
взглядом, погладил пальто руками и спросил мать:
- Идти?
- Найдешь дорогу-то?
- Ну! Найду... До свиданья, значит, товарищи! И ушел, высоко приподняв
плечи, выпятив грудь, в новой шапке набекрень, солидно засунув руки
в карманы. На висках у него весело дрожали светлые кудри.
- Ну, - вот и я при деле! - сказал Весовщиков, мягко подходя к матери.
- Мне уж скучно стало... выскочил из тюрьмы - зачем? Только прячусь.
А там я учился, там Павел так нажимал на мозги - одно удовольствие!
А что, Ниловна, как насчет побега решили?
- Не знаю! - ответила она, невольно вздохнув. Положив ей на плечо тяжелую
руку и приблизив к ней лицо, Николай заговорил:
- Ты скажи им - они тебя послушают, - очень легко это! Ты гляди сама,
вот - стена тюрьмы, около - фонарь. Напротив - пустырь, налево - кладбище,
направо - улицы, город. К фонарю подходит фонарщик - днем, лампы чистить,
- ставит лестницу к стене, влез, зацепил за гребень стены крючья веревочной
лестницы, спустил ее во двор тюрьмы и - марш! Там, за стеной, знают
время, когда это будет сделано, попросят уголовных устроить шум или
сами устроят, а те, кому надо, в это время по лестнице через стенку
- раз, два - готово!
Он размахивал перед
лицом матери руками, рисуя свой план, все у него выходило просто, ясно,
ловко. Она знала его тяжелым, неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели
на все с угрюмой злобой и недоверием, а теперь точно прорезались заново,
светились ровным, теплым светом, убеждая и волнуя мать...
- Ты подумай, ведь это будет - днем!.. Непременно днем. Кому в голову
придет, что заключенный решится бежать днем, на глазах всей тюрьмы?..
- А застрелят! - вздрогнув, молвила женщина.
- Кто? Солдат - нет, надзиратели револьверами гвозди вколачивают...
- Уж очень просто все...
- Увидишь - верно! Нет, ты поговори с ними. У меня все готово - веревочная
лестница, крючья для нее, - хозяин будет фонарщиком...
За дверью кто-то возился, кашлял, гремело железо.
- Вот он! - сказал Николай.
В открытую дверь
просунулась жестяная ванна, хриплый голос бормотал:
- Лезь, черт.
Потом явилась круглая седая голова без шапки, с выпученными глазами,
усатая и добродушная.
Николай помог втащить ванну, в дверь шагнул высокий сутулый человек,
закашлял, надувая бритые щеки, плюнул и хрипло поздоровался:
- Доброго здоровья...
- Вот, спроси его! - воскликнул Николай.
- Меня? О чем?
- О побеге...
- А-а! - сказал хозяин, вытирая усы черными пальцами.
- Вот, Яков Васильевич, не верит она, что это просто.
- Мм, - не верит? Значит - не хочет. А мы с тобой хотим, ну и - верим!
- спокойно сказал хозяин и, вдруг перегнувшись пополам, начал глухо
кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди комнаты, сопя
и разглядывая мать вытаращенными глазами.
- Решать это Паше и товарищам, - сказала Ниловна.
Николай задумчиво
опустил голову.
- Это кто - Паша? - спросил хозяин, садясь.
- Сын мой.
- Как фамилия?
- Власов.
Он кивнул головой, достал кисет, вынул трубку и, набивая ее табаком,
отрывисто говорил:
- Слышал. Мой племяш знает его. Он тоже в тюрьме, племяш - Евченко,
слыхали? А моя фамилия - Гобун. Вот скоро всех молодых в тюрьму запрут,
то-то нам, старикам, раздолье будет! Жандармский мне обещает племянника-то
даже в Сибирь заслать. Зашлет, собака!
Закурив, он обратился
к Николаю, часто поплевывая на пол.
- Так не хочет? Ее дело. Человек свободен, устал сидеть - иди, устал
идти - сиди. Ограбили - молчи, бьют - терпи, убили - лежи. Это известно.
А я Савку вытащу. Вытащу.
Его короткие, лающие фразы возбуждали у матери недоумение, а последние
слова вызвали зависть.
Идя по улице встречу холодному ветру и дождю, она думала о Николае:
"Какой стал, - поди-ка ты!"
И, вспоминая Гобуна, почти молитвенно размышляла: "Видно, не одна
я заново живу!.."
А вслед за этим в сердце ее выросла дума о сыне: "Кабы он согласился!"
В воскресенье,
прощаясь с Павлом в канцелярии тюрьмы, она ощутила в своей руке маленький
бумажный шарик. Вздрогнув, точно он ожег ей кожу ладони, она взглянула
в лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла ответа. Голубые глаза Павла
улыбались обычной, знакомой ей улыбкой, спокойной и твердой.
- Прощай! - сказала она, вздыхая. Сын снова протянул ей руку, и что-то
ласковое дрогнуло в его лице.
- Прощай, мать!
Она ждала, не выпуская руки.
- Не беспокойся, не сердись! - проговорил он. Эти слова и упрямая складка
на лбу ответили ей.
- Ну, что ты? - бормотала она, опустив голову. - Чего там... И торопливо
ушла, не взглянув на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на
глазах и дрожью губ. Дорогой ей казалось, что кости руки, в которой
она крепко сжала ответ сына, ноют и вся рука отяжелела, точно от удара
по плечу. Дома, сунув записку в руку Николая, она встала перед ним и,
ожидая, когда он расправит туго скатанную бумажку, снова ощутила трепет
надежды. Но Николай сказал:
- Конечно! Вот что он пишет: "Мы не уйдем, товарищи, не можем.
Никто из нас. Потеряли бы уважение к себе. Обратите внимание на крестьянина,
арестованного недавно. Он заслужил ваши заботы, достоин траты сил. Ему
здесь слишком трудно. Ежедневные столкновения с начальством. Уже имел
сутки карцера. Его замучают. Мы все просим за него. Утешьте, приласкайте
мою мать. Расскажите ей, она все поймет".
Мать подняла голову
и тихо, вздрогнувшим голосом сказала:
- Ну - чего же рассказывать мне! Я понимаю! Николай быстро отвернулся
в сторону, вынул платок, громко высморкался и пробормотал:
- Схватил насморк, видите ли...
Потом, закрыв глаза руками, чтобы поправить очки, и расхаживая по комнате,
он заговорил:
- Видите ли, мы не успели бы все равно...
- Ничего! Пусть судят! - говорила мать, нахмурив брови, а грудь наливалась
сырой, туманной тоской.
- Вот, я получил письмо от товарища из Петербурга...
- Ведь он и из Сибири может уйти... может?
- Конечно! Товарищ пишет - дело скоро назначат, приговор известен -
всех на поселение. Видите? Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлейшую
комедию. Вы понимаете - приговор составлен в Петербурге, раньше суда...
- Вы оставьте это, Николай Иванович! - решительно сказала мать. – Не
надо меня утешать, не надо объяснять. Паша худо не сделает, даром мучить
ни себя, ни других - не будет! И меня он любит - да! Вы видите - думает
обо мне. Разъясните, пишет, утешьте, а?..
Сердце у нее стучало
быстро, голова кружилась от возбуждения.
- Ваш сын - прекрасный человек! - воскликнул Николай несвойственно громко.
- Я очень уважаю его!
- Вот что, давайте-ка насчет Рыбина подумаем! - предложила она.
Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же, идти куда-то, ходить до усталости.
- Да, хорошо! - ответил Николай, расхаживая по комнате. - Нужно бы Сашеньку...
- Она - придет. Она всегда приходит в тот день, когда я вижу Пашу...
Задумчиво опустив
голову, покусывая губы и крутя бородку, Николай сел на диван, рядом
с матерью.
- Жаль - нет сестры...
- Хорошо устроить это сейчас, пока Паша там, - ему приятно будет! -
говорила мать.
Помолчали, и вдруг мать сказала, медленно и тихо:
- Не понимаю, - отчего он не хочет?..
Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг
на друга.
- Это - Саша, гм! - тихонько произнес Николай.
- Как ей скажешь? - так же тихо спросила мать.
- Да-а, знаете...
- Очень жалко ее...
Звонок повторился
менее громко, точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать
встали и пошли вместе, но у двери в кухню Николай отшатнулся в сторону,
сказав:
- Лучше - вы...
- Не согласен? - твердо спросила девушка, когда мать открыла ей дверь.
- Нет.
- Я знала это! - просто выговорила Саша, но лицо у нее побледнело. Она
расстегнула пуговицы пальто и, снова застегнув две, попробовала снять
его с плеч. Это не удалось ей. Тогда она сказала:
- Дождь, ветер, - противно! Здоров?
- Да.
- Здоров и весел, - негромко сказала Саша, рассматривая свою руку.
- Пишет, чтобы Рыбина освободить! - сообщила мать, не глядя на девушку.
- Да? Мне кажется - мы должны использовать этот план, - медленно проговорила
девушка.
- Я тоже так думаю! - сказал Николай, появляясь в двери. - Здравствуйте,
Саша!
Протянув руку,
девушка спросила:
- В чем же дело? Все согласны, что план удачен?..
- А кто организует? Все заняты...
- Давайте мне! - быстро сказала Саша, вставая на ноги. - У меня есть
время.
- Берите! Но надо спросить других...
- Хорошо, я спрошу! Я сейчас же и пойду. И снова начала застегивать
пуговицы пальто уверенными движениями тонких пальцев.
- Вы отдохнули бы! - предложила мать.
Она тихонько улыбнулась и ответила, смягчая голос:
- Не беспокойтесь, я не устала...
И, молча пожав
им руки, ушла, снова холодная и строгая. Мать и Николай, подойдя к окну,
смотрели, как девушка прошла по двору и скрылась под воротами. Николай
тихонько засвистал, сел за стол и начал что-то писать.
- Займется этим делом, и будет легче ей! - сказала мать задумчиво и
тихо.
- Да, конечно! - отозвался Николай и, обернувшись к матери, с улыбкой
на добром лице спросил: - А вас, Ниловна, миновала эта чаша, - вы не
знали тоски по любимом человеке?
- Ну! - воскликнула она, махнув рукой. - Какая там тоска? Страх был
- как бы вот за того или этого замуж не выдали.
- И никто не нравился? Она подумала и ответила:
- Не помню, дорогой мой. Как не нравиться?.. Верно, кто-нибудь нравился,
только - не помню!
Посмотрела на него
и просто, со спокойной грустью закончила:
- Много бил меня муж, все, что до него было, - как-то стерлось в памяти.
Он отвернулся к столу, а она на минуту вышла из комнаты, и, когда вернулась,
Николай, ласково поглядывая на нее, заговорил, тихонько и любовно гладя
словами свои воспоминания:
- А у меня, видите ли, тоже вот, как у Саши, была история! Любил девушку
- удивительный человек была она, чудесный. Лет двадцати встретил я ее
и с той поры люблю, и сейчас люблю, говоря правду! Люблю все так же
- всей душой, благодарно и навсегда...
Стоя рядом с ним,
мать видела глаза, освещенные теплым и ясным светом. Положив руки на
спинку стула, а на них голову свою, он смотрел куда-то далеко, и все
тело его, худое и тонкое, но сильное, казалось, стремится вперед, точно
стебель растения к свету солнца.
- Что же вы - женились бы! - посоветовала мать.
- О! Она уже пятый год замужем...
- А раньше-то чего же?
Подумав, он ответил:
- Видите ли, у нас все как-то так выходило - она в тюрьме - я на воле,
я на воле - она в тюрьме или в ссылке. Это очень похоже на положение
Саши, право! Наконец ее сослали на десять лет в Сибирь, страшно далеко!
Я хотел ехать за ней даже. Но стало совестно и ей и мне. А она там встретила
другого человека, - товарищ мой, очень хороший парень! Потом они бежали
вместе, теперь живут за границей, да...
Николай кончил
говорить, снял очки, вытер их, посмотрел стекла на свет и стал вытирать
снова.
- Эх, милый вы мой! - покачивая головой, любовно воскликнула женщина.
Ей было жалко его и в то же время что-то в нем заставляло ее улыбаться
теплой, материнской улыбкой. А он переменил позу, снова взял в руку
перо и заговорил, отмечая взмахами руки ритм своей речи:
- Семейная жизнь понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети,
необеспеченность, необходимость много работать для хлеба. А революционер
должен развивать свою энергию неустанно, все глубже и шире. Этого требует
время - мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы - рабочие,
призванные силою истории разрушить старый мир, создать новую жизнь.
А если мы отстаем, поддаваясь усталости или увлеченные близкой возможностью
маленького завоевания, - это плохо, это почти измена делу! Нет никого,
с кем бы мы могли идти рядом, не искажая нашей веры, и никогда мы не
должны забывать, что наша задача - не маленькие завоевания, а только
полная победа.
Голос у него стал
крепким, лицо побледнело, и в глазах загорелась обычная, сдержанная
и ровная сила. Снова громко позвонили, прервав на полуслове речь Николая,
- это пришла Людмила в легком не по времени пальто, с покрасневшими
от холода щеками. Снимая рваные галоши, она сердитым голосом сказала:
- Назначен суд, - через неделю!
- Это верно? - крикнул Николай из комнаты. Мать быстро пошла к нему,
не понимая - испуг или радость волнует ее. Людмила, идя рядом с нею,
с иронией говорила своим низким голосом:
- Верно! В суде совершенно открыто говорят, что приговор уже готов.
Но что же это? Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся
к его врагам? Так долго, так усердно развращая своих слуг, оно все еще
не уверено в их готовности быть подлецами?..
Людмила села на
диван, потирая худые щеки ладонями, в ее матовых глазах горело презрение,
голос все больше наливался гневом.
- Вы напрасно тратите порох, Людмила! - успокоительно сказал Николай.
- Ведь они не слышат вас...
Мать напряженно вслушивалась в ее речь, но ничего не понимала, невольно
повторяя про себя одни и те же слова:
"Суд, через неделю суд!"
Она вдруг почувствовала приближение чего-то неумолимого, нечеловечески
строгого.
Так, в этой туче
недоумения и уныния, под тяжестью тоскливых ожиданий, она молча жила
день, два, а на третий явилась Саша и сказала Николаю:
- Все готово! Сегодня в час...
- Уже готово? - удивился он.
- Да ведь чего же? Мне нужно было только достать место и одежду для
Рыбина, все остальное взял на себя Гобун. Рыбину придется пройти всего
один квартал. Его на улице встретит Весовщиков, - загримированный, конечно,
- накинет на него пальто, даст шапку и укажет путь. Я буду ждать его,
переодену и увезу.
- Недурно! А кто это Гобун? - спросил Николай.
- Вы видели его. В его квартире вы занимались со слесарями.
- А! Помню. Чудаковатый старик...
- Он отставной солдат, кровельщик. Малоразвитой человек, с неисчерпаемой
ненавистью ко всякому насилию... Философ немножко, - задумчиво говорила
Саша, глядя в окно. Мать молча слушала ее, и что-то неясное медленно
назревало в ней.
- Гобун хочет освободить племянника своего, - помните, вам нравился
Евченко, такой щеголь и чистюля? Николай кивнул головой.
- У него все налажено хорошо, - продолжала Саша, - но я начинаю сомневаться
в успехе. Прогулки - общие; я думаю, что, когда заключенные увидят лестницу,
- многие захотят бежать...
Она, закрыв глаза,
помолчала, мать подвинулась ближе к ней.
- И помешают друг другу...
Они все трое стояли перед окном, мать - позади Николая и Саши. Их быстрый
говор будил в сердце ее смутное чувство...
Я пойду туда! - вдруг сказала она.
Зачем? - спросила Саша.
Не ходите, голубчик! Еще как-нибудь попадетесь! Не надо! - посоветовал
Николай.
Мать посмотрела
на него и тише, но настойчивее повторила:
- Нет, я пойду...
Они быстро переглянулись, Саша, пожимая плечами, сказала:
- Это понятно...
Обернувшись к матери, она взяла ее под руку, покачнулась к ней и заговорила
простым и близким сердцу матери голосом:
- Я все-таки скажу вам, вы напрасно ждете...
- Голубушка! - воскликнула мать, прижав ее к себе дрожащей рукой. -
Возьмите меня, - не помешаю! Мне - нужно. Не верю я, что можно это -
убежать!
Она пойдет! - сказала
девушка Николаю.
Это ваше дело! - ответил он, наклоняя голову.
Нам нельзя быть вместе. Вы идите в поле, к огородам. Оттуда видно стену
тюрьмы. Но - если спросят вас, что вы там делаете?
Обрадованная, мать уверенно ответила:
- Найду, что сказать!..
- Не забывайте, что вас знают тюремные надзиратели! - говорила Саша.
- И если они увидят вас там...
- Не увидят! - воскликнула мать. В ее груди вдруг болезненно ярко вспыхнула
все время незаметно тлевшая надежда и оживила ее... "А может быть,
и он тоже..." - думала она, поспешно одеваясь.
Через час мать
была в поле за тюрьмой. Резкий ветер летал вокруг нее, раздувал платье,
бился о мерзлую землю, раскачивал ветхий забор огорода, мимо которого
шла она, и с размаху ударялся о невысокую стену тюрьмы. Опрокинувшись
за стену, взметал со двора чьи-то крики, разбрасывал их по воздуху,
уносил в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие просветы
в синюю высоту.
Сзади матери был
огород, впереди кладбище, а направо, саженях в десяти, тюрьма. Около
кладбища солдат гонял на корде лошадь, а другой, стоя рядом с ним, громко
топал в землю ногами, кричал, свистел и смеялся. Больше никого не было
около тюрьмы.
Она медленно пошла дальше мимо них к ограде кладбища, искоса поглядывая
направо и назад. И вдруг почувствовала, что ноги у нее дрогнули, отяжелели,
точно примерзли к земле, - из-за угла тюрьмы спешно, как всегда ходят
фонарщики, вышел сутулый человек с лестницей на плече. Мать, испуганно
мигнув, быстро взглянула на солдат - они топтались на одном месте, а
лошадь бегала вокруг них; посмотрела на человека с лестницей - он уже
поставил ее к стене и влезал не торопясь. Махнув во двор рукой, быстро
спустился, исчез за углом. Сердце матери билось торопливо, секунды шли
медленно. На темной стене тюрьмы линии лестницы были едва заметны в
пятнах грязи и осыпавшейся штукатурки, обнажившей кирпич. И вдруг над
стеной явилась черная голова, выросло тело, перевалилось через стену,
сползло по ней. Показалась другая голова в мохнатой шапке, на землю
скатился черный ком и быстро исчез за углом. Михаиле выпрямился, оглянулся,
тряхнул головой...
- Беги, беги! - шептала мать, топая ногой.
В ушах у нее гудело,
доносились громкие крики - вот над стеной явилась третья голова. Мать,
схватившись руками за грудь, смотрела, замирая. Светловолосая голова
без бороды рвалась вверх, точно хотела оторваться, и вдруг - исчезла
за стеной. Кричали все громче, буйнее, ветер разносил по воздуху тонкие
трели свистков. Михаиле шел вдоль стены, вот он уже миновал ее, переходил
открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что
он идет слишком медленно и напрасно так высоко поднял голову, - всякий,
кто взглянет в лицо его, запомнит это лицо навсегда. Она шептала:
- Скорее... скорее...
За стеною тюрьмы
сухо хлопнуло что-то, - был слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат,
упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь, другой, приложив ко рту
кулак, что-то кричал по направлению тюрьмы и, крикнув, поворачивал туда
голову боком, подставляя ухо.
Напрягаясь, мать вертела шеей во все стороны, ее глаза, видя все, ничему
не верили - слишком просто и быстро совершилось то, что она представляла
себе страшным и сложным, и эта быстрота, ошеломив ее, усыпляла сознание.
В улице уже не видно было Рыбина, шел какой-то высокий человек в длинном
пальто, бежала девочка. Из-за угла тюрьмы выскочило трое надзирателей,
они бежали тесно друг к другу и все вытягивали вперед правые руки. Один
из солдат бросился им встречу, другой бегал вокруг лошади, стараясь
вскочить на нее, она не давалась, прыгала, и все вокруг тоже подпрыгивало
вместе с нею. Непрерывно, захлебываясь звуком, воздух резали свистки.
Их тревожные, отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности;
вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища, следя за надзирателями,
но они и солдаты забежали за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же
следом за ними пробежал знакомый ей помощник смотрителя тюрьмы в расстегнутом
мундире. Откуда-то появилась полиция, сбегался народ.
Ветер кружился,
метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные,
спутанные крики, свист... Эта сумятица радовала ее, мать зашагала быстрее,
думая:
"Значит - мог бы и он!"
Навстречу ей, из-за угла ограды, вдруг вынырнули двое полицейских.
- Стой! - крикнул один, тяжело дыша. - Человека - с бородой - не видала?
Она указала рукой на огороды и спокойно ответила:
- Туда побежал, - а что?
- Егоров! Свисти!
Она пошла домой. Было ей жалко чего-то, на сердце лежало нечто горькое,
досадное. Когда она входила с поля в улицу, дорогу ей перерезал извозчик.
Подняв голову, она увидала в пролетке молодого человека с светлыми усами
и бледным, усталым лицом. Он тоже посмотрел на нее. Сидел он косо, и,
должно быть, от этого правое плечо у него было выше левого.
Николай встретил ее радостно.
- Ну, что там?
- Как будто удалось...
Стараясь восстановить
в своей памяти все мелочи, она начала рассказывать о бегстве и говорила
так, точно передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде его.
- Нам везет! - сказал Николай, потирая руки. - Но - как я боялся за
вас! Черт знает как! Знаете, Ниловна, примите мой дружеский совет -
не бойтесь суда! Чем скорее он, тем ближе свобода Павла, поверьте! Может
быть - он уйдет с дороги. А суд - это приблизительно такая штука...
Он начал рисовать ей картину заседания суда, она слушала и понимала,
что он чего-то боится, хочет ободрить ее.
- Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь судьям? - вдруг спросила
она. - Попрошу их о чем-нибудь?
Он вскочил, замахал на нее руками и обиженно вскричал:
- Что вы!
- Я боюсь, верно! Чего боюсь - не знаю!.. - Она помолчала, блуждая глазами
по комнате.
- Иной раз кажется - начнут они Пашу обижать, измываться над ним. Ах
ты, мужик, скажут, мужицкий ты сын! Что затеял? А Паша - гордый, он
им так ответит! Или - Андрей посмеется над ними. И все они там горячие.
Вот и думаешь - вдруг не стерпит... И засудят так, что уж и не увидишь
никогда!
Николай хмуро молчал,
дергая свою бородку.
- Этих дум не выгонишь из головы! - тихо сказала мать, - Страшно это
- суд! Как начнут все разбирать да взвешивать! Очень страшно! Не наказание
страшно, а - суд. Не умею я этого сказать...
Николай - она чувствовала - не понимает ее, и это еще более затрудняло
желание рассказать о страхе своем.
Этот страх, подобный
плесени, стеснявший дыхание тяжелой сыростью, разросся в ее груди, и,
когда настал день суда, она внесла с собою в зал заседания тяжелый,
темный груз, согнувший ей спину и шею.
На улице с нею здоровались слободские знакомые, она молча кланялась,
пробираясь сквозь угрюмую толпу. В коридорах суда и в зале ее встретили
родственники подсудимых и тоже что-то говорили пониженными голосами.
Слова казались ей ненужными, она не понимала их. Все люди были охвачены
одним и тем же скорбным чувством - это передавалось матери и еще более
угнетало ее.
- Садись рядом! - сказал Сизов, подвигаясь на лавке. Послушно села,
оправила платье, взглянула вокруг. Перед глазами у нее слитно поплыли
какие-то зеленые и малиновые полосы, пятна, засверкали тонкие желтые
нити.
- Погубил твой сын нашего Гришу! - тихо проговорила женщина, сидевшая
рядом с ней.
- Молчи, Наталья! - ответил Сизов угрюмо.
Мать посмотрела
на женщину - это была Самойлова, дальше сидел ее муж, лысый, благообразный
человек с окладистой рыжей бородой. Лицо у него было костлявое; прищурив
глаза, он смотрел вперед, и борода его дрожала.
Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом, снаружи по стеклам
скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно
блестевшей золотой раме, тяжелые малиновые драпировки окон прикрывали
раму с боков прямыми складками. Перед портретом, почти во всю ширину
зала вытянулся стол, покрытый зеленым сукном, направо у стены стояли
за решеткой две деревянные скамьи, налево - два ряда малиновых кресел.
По залу бесшумно бегали служащие с зелеными воротниками, золотыми пуговицами
на груди и животе. В мутном воздухе робко блуждал тихий шепот, носился
смешанный запах аптеки. Все это - цвета, блески, звуки и запахи - давило
на глаза, вторгалось вместе с дыханием в грудь и наполняло опустошенное
сердце неподвижной, пестрой мутью унылой боязни.
Вдруг один из людей
громко сказал что-то, мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась,
схватившись за руку Сизова.
В левом углу зала отворилась высокая дверь, из нее, качаясь, вышел старичок
в очках. На его сером личике тряслись белые редкие баки, верхняя бритая
губа завалилась в рот, острые скулы и подбородок опирались на высокий
воротник мундира, казалось, что под воротником нет шеи. Его поддерживал
сзади под руку высокий молодой человек с фарфоровым лицом, румяным и
круглым, а вслед за ними медленно двигались еще трое людей в расшитых
золотом мундирах и трое штатских.
Они долго возились
за столом, усаживаясь в кресла, а когда сели, один из них, в расстегнутом
мундире, с ленивым бритым лицом, что-то начал говорить старичку, беззвучно
и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал, сидя странно прямо
и неподвижно, за стеклами его очков мать видела два маленькие бесцветные
пятнышка.
На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, покашливал,
шелестел бумагами.
Старичок покачнулся вперед, заговорил. Первое слово он выговаривал ясно,
а следующие как бы расползались у него по губам, тонким и серым.
- Открываю... Введите...
- Гляди! - шепнул Сизов, тихонько толкая мать, и встал.
В стене за решеткой
открылась дверь, вышел солдат с обнаженной шашкой на плече, за ним явились
Павел, Андрей, Федя Мазин, оба Гусевы, Самойлов, Букин, Сомов и еще
человек пять молодежи, незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался,
Андрей тоже, оскалив зубы, кивал головой; в зале стало как-то светлее,
проще от их улыбок, оживленных лиц и движения, внесенного ими в натянутое,
чопорное молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче,
веяние бодрой уверенности, дуновение живой силы коснулось сердца матери,
будя его. И на скамьях сзади нее, где до той поры люди подавленно ожидали,
теперь тоже вырос ответный негромкий гул.
- Не трусят! - услыхала она шепот Сизова, а с правой стороны тихо всхлипнула
мать Самойлова.
- Тише! - раздался суровый окрик.
- Предупреждаю... - сказал старичок.
Павел и Андрей
сели рядом, вместе с ними на первой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы.
Андрей обрил себе бороду, усы у него отросли и свешивались вниз, придавая
его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось
на его лице - острое и едкое в складках рта, темное в глазах. На верхней
губе Мазина чернели две полоски, лицо стало полнее, Самойлов был такой
же кудрявый, как и раньше, и так же широко ухмылялся Иван Гусев.
- Эх, Федька, Федька! - шептал Сизов, опустив голову.
Мать слушала невнятные вопросы старичка, - он спрашивал, не глядя на
подсудимых, и голова его лежала на воротнике мундира неподвижно, - слышала
спокойные, короткие ответы сына. Ей казалось, что старший судья и все
его товарищи не могут быть злыми, жестокими людьми. Внимательно осматривая
лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась
к росту новой надежды в своей груди.
Фарфоровый человек
безучастно читал бумагу, его ровный голос наполнял зал скукой, и люди,
облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов тихо,
но оживленно разговаривали с подсудимыми, все они двигались сильно,
быстро и напоминали собой больших черных птиц.
По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом толстый, пухлый
судья с маленькими, заплывшими глазами, по другую - сутулый, с рыжеватыми
усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула и, полуприкрыв
глаза, о чем-то думал. У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное.
Сзади судей сидел,
задумчиво поглаживая щеку, городской голова, полный, солидный мужчина;
предводитель дворянства, седой, большебородый и краснолицый человек,
с большими, добрыми глазами; волостной старшина в поддевке, с огромным
животом, который, видимо, конфузил его - он все старался прикрыть его
полой поддевки, а она сползала.
- Здесь нет преступников, нет судей, - раздался твердый голос Павла,
- здесь только пленные и победители...
Стало тихо, несколько
секунд ухо матери слышало только тонкий, торопливый скрип пера по бумаге
и биение своего сердца.
И старший судья тоже как будто прислушивался к чему-то, ждал. Его товарищи
пошевелились. Тогда он сказал:
- М-да, Андрей Находка! Признаете вы... Андрей медленно приподнялся,
выпрямился и, дергая себя за усы, исподлобья смотрел на старичка.
- Да в чем же я могу признать себя виновным? - певуче и неторопливо,
как всегда, заговорил хохол, пожав плечами. - Я не убил, не украл, я
просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены
грабить и убивать друг друга...
- Отвечайте короче, - с усилием, но внятно сказал старик. На скамьях,
сзади себя, мать чувствовала оживление, люди тихо шептались о чем-то
и двигались, как бы освобождая себя из паутины серых слов фарфорового
человека.
- Слышишь, как они? - шепнул Сизов.
- Федор Мазин, отвечайте...
- Не хочу! - ясно сказал Федя, вскочив на ноги. Лицо его залилось румянцем
волнения, глаза засверкали, он почему-то спрятал руки за спину.
Сизов тихонько
ахнул, мать изумленно расширила глаза.
- Я отказался от защиты, я ничего не буду говорить, суд ваш считаю незаконным!
Кто вы? Народ ли дал вам право судить нас? Нет, он не давал! Я вас не
знаю!
Он сел и скрыл свое разгоревшееся лицо за плечом Андрея. Толстый судья
наклонил голову к старшему и что-то прошептал. Судья с бледным лицом
поднял веки, скосил глаза на подсудимых, протянул руку на стол и черкнул
карандашом на бумаге, лежавшей перед ним. Волостной старшина покачал
головой, осторожно переставив ноги, положил живот на колени и прикрыл
его руками. Не двигая головой, старичок повернул корпус к рыжему судье,
беззвучно поговорил с ним, тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель
дворянства шептался с прокурором, голова слушал их, потирая щеку. Вновь
зазвучала тусклая речь старшего судьи.
- Каково отрезал? Прямо - лучше всех! - удивленно шептал Сизов на ухо
матери.
Мать, недоумевая,
улыбалась. Все происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием
к чему-то страшному, что появится и сразу раздавит всех холодным ужасом.
Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо,
точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом
суда. Горячая выходка Феди оживила ее. Что-то смелое росло в зале, и
мать, по движению людей сзади себя, догадывалась, что не она одна чувствует
это.
- Ваше мнение? - сказал старичок. Лысоватый прокурор встал и, держась
одной рукой за конторку, быстро заговорил, приводя цифры. В его голосе
не слышно было страшного.
Но в то же время сухой, колющий налет бередил и тревожил сердце матери
- было смутное ощущение чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не
кричало, а развивалось невидимо, неуловимо. Лениво и тупо оно колебалось
где-то вокруг судей, как бы окутывая их непроницаемым облаком, сквозь
которое не достигало до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все
они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Федю, как она
ждала, не обижали их словами, но все, о чем они спрашивали, казалось
ей ненужным для них, они как будто нехотя спрашивают, с трудом выслушивают
ответы, все заранее знают, ничем не интересуются. Вот перед ними стоит
жандарм и говорит басом:
- Павла Власова называли главным зачинщиком все...
- А Находку? - лениво и негромко спросил толстый судья.
- И его тоже...
Один из адвокатов встал, говоря:
- Могу я?
Старичок спрашивает кого-то:
- Вы ничего не имеете?
Все судьи казались
матери нездоровыми людьми. Болезненное утомление сказывалось в их позах
и голосах, оно лежало на лицах у них, - болезненное утомление и надоедная,
серая скука. Видимо, им тяжело и неудобно все это - мундиры, зал, жандармы,
адвокаты, обязанность сидеть в креслах, спрашивать и слушать.
Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и важно, растягивая слова,
громко рассказывает о Павле, об Андрее. Мать, слушая его, невольно думала:
"Не много ты знаешь". И смотрела на людей за решеткой уже
без страха за них, без жалости к ним - к ним не приставала жалость,
все они вызывали у нее только удивление и любовь, тепло обнимавшую сердце;
удивление было спокойно, любовь - радостно ясна. Молодые, крепкие, они
сидели в стороне у стены, почти не вмешиваясь в однообразный разговор
свидетелей и судей, в споры адвокатов с прокурором. Порою кто-нибудь
презрительно усмехался, что-то говорил товарищам, по их лицам тоже пробегала
насмешливая улыбка. Андрей и Павел почти все время тихо беседовали с
одним из защитников - мать накануне видела его у Николая. К их беседе
прислушивался Мазин, оживленный и подвижный более других, Самойлов что-то
порою говорил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз Иван, незаметно
отталкивая товарища локтем, едва сдерживает смех, лицо у него краснеет,
щеки надуваются, он наклоняет голову. Раза два он уже фыркнул, а после
этого несколько минут сидел надутый, стараясь быть более солидным. И
в каждом, так или иначе, играла молодость, легко одолевая усилия сдержать
ее живое брожение.
Сизов легонько
тронул ее за локоть, она обернулась к нему - лицо у него было довольное
и немного озабоченное. Он шептал:
- Ты погляди, как они укрепились, материны дети, а? Бароны, а?
В зале говорили свидетели - торопливо, обесцвеченными голосами, судьи
- неохотно и безучастно. Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой,
рыжеусый побледнел еще более, иногда он поднимал руку и, туго нажимая
на кость виска пальцем, слепо смотрел в потолок жалобно расширенными
глазами. Прокурор изредка черкал карандашом по бумаге и снова продолжал
беззвучную беседу с предводителем дворянства, а тот, поглаживая седую
бороду, выкатывал огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею.
Городской голова сидел, закинув ногу на ногу, бесшумно барабанил пальцами
по колену и сосредоточенно наблюдал за движениями пальцев. Только волостной
старшина, утвердив живот на коленях и заботливо поддерживая его руками,
сидел, наклонив голову, и, казалось, один вслушивался в однообразное
журчание голосов, да старичок, воткнутый в кресло, торчал в нем неподвижно,
как флюгер в безветренный день. Продолжалось это долго, и снова оцепенение
скуки ослепило людей...
- Объявляю... - сказал старичок и, раздавив тонкими губами следующие
слова, встал.
Шум, вздохи, тихие
восклицания, кашель и шарканье ног наполнили зал. Подсудимых увели,
уходя, они, улыбаясь, кивали головами родным и знакомым, а Иван Гусев
негромко крикнул кому-то:
- Не робей, Егор!..
Мать и Сизов вышли в коридор.
- Чай пить в трактир пойдешь? - заботливо и задумчиво спросил ее старик.
- Полтора часа время у нас!
- Не хочу.
- Ну, и я не пойду. Нет, - каковы ребята, а? Сидят вроде того, как будто
они только и есть настоящие люди, а остальные все - ни при чем! Федька-то,
а?
К ним подошел отец
Самойлова, держа шапку в руке. Он угрюмо улыбался и говорил:
- Мой-то Григорий? От защитника отказался и разговаривать не хочет.
Первый он, слышь, выдумал это. Твой-то, Пелагея, стоял за адвокатов,
а мой говорит - не желаю! И тогда четверо отказались...
Рядом с ним стояла жена. Часто моргая глазами, она вытирала нос концом
платка. Самойлов взял бороду в руку и продолжал, глядя в пол:
- Ведь вот штука! Глядишь на них, чертей, понимаешь - зря они все это
затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начинаешь думать - а может, их
правда? Вспомнишь, что на фабрике они все растут да растут, их то и
дело хватают, а они, как ерши в реке, не переводятся, нет! Опять думаешь
- а может, и сила за ними?
- Трудно нам, Степан Петров, понять это дело! - сказал Сизов.
- Трудно - да! - согласился Самойлов.
Его жена, сильно
потянув воздух носом, заметила:
- Здоровы все, окаянные...
И, не сдержав улыбки на широком, дряблом лице, продолжала:
- Ты, Ниловна, не сердись, - давеча я тебе бухнула, что, мол, твой виноват.
А пес их разберет, который виноват, если по правде говорить! Вон что
про нашего-то Григория жандармы со шпионами говорили. Тоже, постарался,
- рыжий бес!
Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может, не понимая своего чувства,
но ее чувство было знакомо матери, и она ответила на ее слова доброй
улыбкой, тихими словами:
- Молодое сердце всегда ближе к правде...
По коридору бродили
люди, собирались в группы, возбужденно и вдумчиво разговаривая глухими
голосами. Почти никто не стоял одиноко - на всех лицах было ясно видно
желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух
стен люди мотались взад и вперед, точно под ударами сильного ветра,
и, казалось, все искали возможности стать на чем-то твердо и крепко.
Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший, размахивал руками, быстро
вертясь во все стороны, и доказывал:
- Волостной старшина Клепанов в этом деле не на месте...
- Молчи, Константин! - уговаривал его отец, маленький старичок, и опасливо
оглядывался.
- Нет, я скажу! Про него идет слух, что он в прошлом году приказчика
своего убил из-за его жены. Приказчикова жена с ним живет - это как
понимать? И к тому же он известный вор...
- Ах ты, батюшки мои, Константин!
- Верно! - сказал, Самойлов. - Верно! Суд - не очень правильный...
Букин услыхал его
голос, быстро подошел, увлекая за собой всех, и, размахивая руками,
красный от возбуждения, закричал:
- За кражу, за убийство - судят присяжные, простые люди, - крестьяне,
мещане, - позвольте! А людей, которые против начальства, судит начальство,
- как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам в зубы, а ты меня за
это судить будешь, - конечно, я окажусь виноват, а первый обидел кто
- ты? Ты!
Сторож, седой, горбоносый, с медалями на груди, растолкал толпу и сказал
Букину, грозя пальцем:
- Эй, не кричи! Кабак тут?
- Позвольте, кавалер, я понимаю! Послушайте - ежели я вас ударю и я
же вас буду судить, как вы полагаете...
- А вот я тебя вывести велю отсюда! - строго сказал сторож.
- Куда же? Зачем?
- На улицу. Чтобы ты не орал...
Букин осмотрел
всех и негромко проговорил:
- Им главное, чтобы люди молчали...
- А ты как думал?! - крикнул старик строго и грубо. Букин развел руками
и стал говорить тише:
- И опять же, почему не допущен на суд народ, а только родные? Ежели
ты судишь справедливо, ты суди при всех - чего бояться?
Самойлов повторил, но уже громче:
- Суд не по совести, это верно!..
Матери хотелось
сказать ему то, что она слышала от Николая о незаконности суда, но она
плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их, она
отодвинулась в сторону от людей и заметила, что на нее смотрит какой-то
молодой человек со светлыми усами. Правую руку он держал в кармане брюк,
от этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась
знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была озабочена
воспоминаниями и тотчас же забыла о нем.
Но через минуту
слуха ее коснулся негромкий вопрос:
- Эта?
И кто-то громче, радостно ответил:
- Да!
Она оглянулась. Человек с косыми плечами стоял боком к ней и что-то
говорил своему соседу, чернобородому парню в коротком пальто и в сапогах
по колено.
Снова память ее беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного.
В груди ее повелительно разгоралось желание говорить людям о правде
сына, ей хотелось слышать, что скажут люди против этой правды, хотелось
по их словам догадаться о решении суда.
- Разве так судят? - осторожно и негромко начала она, обращаясь к Сизову.
- Допытываются о том - что кем сделано, а зачем сделано - не спрашивают.
И старые они все, молодых - молодым судить надо...
- Да, - сказал Сизов, - трудно нам понять это дело, трудно! - И задумчиво
покачал головой.
Сторож, открыв дверь зала, крикнул:
- Родственники! Показывай билеты... Угрюмый голос неторопливо проговорил:
- Билеты, - словно в цирк!
Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздражение, смутный задор,
они стали держаться развязнее, шумели, спорили со сторожами.
Усаживаясь на скамью,
Сизов что-то ворчал.
- Ты что? - спросила мать.
- Так! Дурак народ...
Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил:
- Суд идет...
Снова все встали, и снова, в том же порядке, вошли судьи, уселись. Ввели
подсудимых.
- Держись! - шепнул Сизов. - Прокурор говорить будет. Мать вытянула
шею, всем телом подалась вперед и замерла в новом ожидании страшного.
Стоя боком к судьям,
повернув к ним голову, опираясь локтем на конторку, прокурор вздохнул
и, отрывисто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил. Первых слов
мать не разобрала, голос у прокурора был плавный, густой и тек неровно,
то - медленно, то - быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный
ряд, точно стежки нитки, и вдруг вылетали торопливо, кружились, как
стая черных мух над куском сахара. Но она не находила в них ничего страшного,
ничего угрожающего. Холодные, как снег, и серые, точно пепел, они сыпались,
сыпались, наполняя зал чем-то досадно надоедающим, как тонкая, сухая
пыль. Эта речь, скупая чувствами, обильная словами, должно быть, не
достигала до Павла и его товарищей - видимо, никак не задевала их, -
все сидели спокойно и, по-прежнему беззвучно беседуя, порою улыбались,
порою хмурились, чтобы скрыть улыбку. - Врет! - шептал Сизов.
Она не могла бы
этого сказать. Она слышала слова прокурора, понимала, что он обвиняет
всех, никого не выделяя; проговорив о Павле, он начинал говорить о Феде,
а поставив его рядом с Павлом, настойчиво пододвигал к ним Букина, -
казалось, он упаковывает, зашивает всех в один мешок, плотно укладывая
друг к другу. Но внешний смысл его слов не удовлетворял, не трогал и
не пугал ее, она все-таки ждала страшного и упорно искала его за словами
- в лице, в глазах, в голосе прокурора, в его белой руке, неторопливо
мелькавшей по воздуху. Что-то страшное было, она это чувствовала, но
- неуловимое - оно не поддавалось определению, вновь покрывая ее сердце
сухим и едким налетом.
Она смотрела на
судей - им, несомненно, было скучно слушать эту речь. Неживые, желтые
и серые лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе
незаметный глазу туман, он все рос и сгущался вокруг судей, плотнее
окутывая их облаком равнодушия и утомленного ожидания. Старший судья
не двигался, засох в своей прямой позе, серые пятнышки за стеклами его
очков порою исчезали, расплываясь по лицу.
И, видя это мертвое
безучастие, это беззлобное равнодушие, мать недоуменно спрашивала себя:
"Судят?"
Вопрос стискивал ей сердце и, постепенно выжимая из него ожидание страшного,
щипал горло острым ощущением обиды.
Речь прокурора порвалась как-то неожиданно - он сделал несколько быстрых,
мелких стежков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель
дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова
протянул руку, а старшина глядел на свой живот и улыбался.
Но судей речь его, видимо, не обрадовала, они не шевелились.
- Слово, - заговорил старичок, поднося к своему лицу какую-то бумагу,
- защитнику Федосеева, Маркова и Загарова.
Встал адвокат,
которого мать видела у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое,
его маленькие глазки лучисто улыбались, - казалось, из-под рыжеватых
бровей высовываются два острия и, точно ножницы, стригут что-то в воздухе.
Заговорил он неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться
в его речь - Сизов шептал ей на ухо:
- Поняла, что он говорил? Поняла? Люди, говорит, расстроенные, безумные.
Это - Федор?
Она не отвечала,
подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь
Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидать
строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Ей представлялось,
что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей
жизни его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына
ее, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо, громко
скажут:
- Человек этот прав!
Но ничего подобного
не было - казалось, что подсудимые невидимо далеко от судей, а судьи
- лишние для них. Утомленная, мать потеряла интерес к суду и, не слушая
слов, обиженно думала: "Разве так судят?"
- Так их! - одобрительно прошептал Сизов. Уже говорил другой адвокат,
маленький, с острым, бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему.
Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе, потом,
увещевая, заговорил старичок, - защитник, почтительно наклонив голову,
послушал их и снова продолжал речь.
- Ковыряй! - заметил Сизов. - Расковыривай... В зале зарождалось оживление,
сверкал боевой задор, адвокат раздражал острыми словами старую кожу
судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы
отражать колкие и резкие щелчки слов.
Но вот поднялся
Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперед.
Павел заговорил спокойно:
- Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не
в защиту свою, а - по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты,
- попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше
выступление под знаменем социал-демократии - бунтом против верховной
власти и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен
заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей
тело страны, оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны
сорвать с народа...
Тишина углублялась
под звуками твердого голоса, он как бы расширял стены зала, Павел точно
отодвигался от людей далеко в сторону, становясь выпуклее.
Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то
прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку,
а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь
в кресле вправо и влево, старичок что-то сказал Павлу, но голос его
утонул в ровном и широком потоке речи Власова.
- Мы - социалисты.
Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет
людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов,
лжет, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью,
лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека
только как орудие своего обогащения, - противочеловечно, оно враждебно
нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм
и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем
бороться против всех форм физического и морального порабощения человека
таким обществом, против всех приемов дробления человека в угоду корыстолюбию.
Мы, рабочие, - люди, трудом которых создается все – от гигантских машин
до детских игрушек, мы - люди, лишенные права бороться за свое человеческое
достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения
своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам
возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты -
долой частную собственность, все средства производства - народу, вся
власть - народу, труд - обязателен для всех. Вы видите - мы не бунтовщики!
Павел усмехнулся,
медленно провел рукой по волосам, огонь его голубых глаз вспыхнул светлее.
- Прошу вас, - ближе к делу! - сказал председатель внятно и громко.
Он повернулся к Павлу грудью, смотрел на него, и матери казалось, что
его левый тусклый глаз разгорается нехорошим, жадным огнем. И все судьи
смотрели на ее сына так, что казалось - их глаза прилипают к его лицу,
присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные
тела. А он, прямой, высокий, стоя твердо и крепко, протягивал к ним
руку и негромко, четко говорил:
- Мы - революционеры и будем таковыми до поры, пока одни - только командуют,
другие - только работают. Мы стоим против общества, интересы которого
вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение
между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие
Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же собственность,
накопляя и сохраняя которую они жертвуют миллионами порабощенных ими
людей, та же сила, которая дает им власть над нами, возбуждает среди
них враждебные трения, разрушает их физически и морально. Собственность
требует слишком много напряжения для своей защиты, и, в сущности, все
вы, наши владыки, более рабы, чем мы, - вы порабощены духовно, мы -
только физически. Вы не можете отказаться от гнета предубеждений и привычек,
- гнета, который духовно умертвил вас, - нам ничто не мешает быть внутренне
свободными, - яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий,
которые вы - не желая - вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается
безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все
лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите - у вас
уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже
израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической
справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы
духовно бесплодны. Наши идеи растут, они все ярче разгораются, они охватывают
народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой
роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу, - вы ничем не можете
задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма.
Но цинизм - очевиден, жестокость - раздражает. И руки, которые сегодня
нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки. Ваша энергия
- механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные
пожрать друг, друга, наша энергия - живая сила все растущего сознания
солидарности всех рабочих. Все, что делаете вы, - преступно, ибо направлено
к порабощению людей, наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ,
рожденных вашею ложью, злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ.
Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный
вами мир во единое великое целое, и это - будет!
Павел остановился
на секунду и повторил тише, сильнее:
- Это - будет!
Судьи перешептывались, странно гримасничая, и все не отрывали жадных
глаз от Павла, а мать чувствовала, что они грязнят его гибкое, крепкое
тело своими взглядами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые
внимательно слушали речь товарища, лица их побледнели, глаза сверкали
радостно. Мать глотала слова сына, и они врезывались в памяти ее стройными
рядами. Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то разъяснял
ему, однажды даже печально улыбнулся - Павел молча выслушивал его и
снова начинал говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя,
подчиняя своей воле - волю судей. Но наконец старик закричал, протягивая
руку к Павлу; в ответ ему, немного насмешливо, лился голос Павла:
- Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел, напротив - присутствуя невольно
при этой комедии, которую вы называете судом, я чувствую почти сострадание
к вам. Все-таки - вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и
враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию,
до такой степени утративших сознание своего человеческого достоинства...
Он сел, не глядя
на судей, мать, сдерживая дыхание, пристально смотрела на судей, ждала.
Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла, Самойлов, Мазин и все
оживленно потянулись к нему, он улыбался, немного смущенный порывами
товарищей, взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой, как
бы спрашивая: "Так?"
Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной
любви.
- Вот, - начался суд! - прошептал Сизов. - Ка-ак он их, а?
Она молча кивала
головой, довольная тем, что сын так смело говорил, - быть может, еще
более довольная тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос:
"Ну? Как же вы теперь?"
То, что говорил
сын, не было для нее новым, она знала эти мысли, но первый раз здесь,
перед лицом суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его веры.
Ее поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в ее груди звездоподобным,
лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Она
ждала теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито возражать
ему, выдвигая свою правду. Но вот встал Андрей, покачнулся, исподлобья
взглянул на судей и заговорил:
- Господа защитники...
- Перед вами суд, а не защита! - сердито и громко заметил ему судья
с больным лицом. По выражению лица Андрея мать видела, что он хочет
дурить, усы у него дрожали, в глазах светилась хитрая кошачья ласка,
знакомая ей. Он крепко потер голову длинной рукой и вздохнул. - Разве
ж? - сказал он, покачивая головой. - Я думаю - вы не судьи, а только
защитники...
- Я попрошу вас говорить по существу дела! - сухо заметил старичок.
- По существу? Хорошо! Я уже заставил себя подумать, что вы действительно
судьи, люди независимые, честные...
- Суд не нуждается в вашей характеристике!
- Не нуждается? Гм, - ну, все ж я буду продолжать... Вы люди, для которых
нет ни своих, ни чужих, вы - свободные люди. Вот стоят перед вами две
стороны, и одна жалуется - он меня ограбил и замордовал совсем! А другая
отвечает - имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть...
- Вы имеете сказать
что-нибудь по существу? - повышая голос, спросил старичок. У него дрожала
рука, и матери было приятно видеть, что он сердится. Но поведение Андрея
не нравилось ей - оно не сливалось с речью сына, - ей хотелось серьезного
и строгого спора.
Хохол молча посмотрел на старичка, потом, потирая голову, сказал серьезно:
- По существу? Да зачем же я с вами буду говорить по существу? Что нужно
было вам знать - товарищ сказал. Остальное вам доскажут, будет время,
другие...
Старичок привстал
и объявил:
- Лишаю вас слова! Григорий Самойлов! Плотно сжав губы, хохол лениво
опустился на скамью, рядом с ним встал Самойлов, тряхнув кудрями:
- Прокурор называл товарищей дикарями, врагами культуры...
- Нужно говорить только о том, что касается вашего дела!
- Это - касается. Нет ничего, что не касалось бы честных людей. И я
прошу не прерывать меня. Я спрашиваю вас - что такое ваша культура?
- Мы здесь не для диспутов с вами! К делу! - обнажая зубы, говорил старичок.
Поведение Андрея
явно изменило судей, его слова как бы стерли с них что-то, на серых
лицах явились пятна, в глазах горели холодные, зеленые искры. Речь Павла
раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой, невольно внушавшей
уважение, хохол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было
под нею. Они перешептывались со странными ужимками и стали двигаться
слишком быстро для себя.
- Вы воспитываете шпионов, вы развращаете женщин и девушек, вы ставите
человека в положение вора и убийцы, вы отравляете его водкой, - международные
бойни, всенародная ложь, разврат и одичание - вот культура ваша! Да,
мы враги этой культуры!
- Прошу вас! -
крикнул старичок, встряхивая подбородком. Но Самойлов, весь красный,
сверкая глазами, тоже кричал:
- Но мы уважаем и ценим ту, другую культуру, творцов которой вы гноили
в тюрьмах, сводили с ума...
- Лишаю слова! Федор Мазин!
Маленький Мазин поднялся, точно вдруг высунулось шило, и срывающимся
голосом сказал:
- Я... я клянусь! Я знаю - вы осудили меня. Он задохнулся, побледнел,
на лице у него остались одни глаза, и, протянув руку, он крикнул:
- Я - честное слово! Куда вы ни пошлете меня - убегу, ворочусь, буду
работать всегда, всю жизнь. Честное слово!
Сизов громко крякнул,
завозился. И вся публика, поддаваясь все выше восходившей волне возбуждения,
гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина, кто-то удушливо кашлял.
Жандармы рассматривали подсудимых с тупым удивлением, публику - со злобой.
Судьи качались, старик тонко кричал:
- Гусев Иван!
- Не хочу говорить!
- Василий Гусев!
- Не хочу!
- Букин Федор!
Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень и, качая головой, медленно
сказал;
- Стыдились бы! Я человек тяжелый и то понимаю справедливость! – Он
поднял руку выше головы и замолчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь
к чему-то вдали.
- Что такое? - раздраженно, с изумлением вскричал старик, опрокидываясь
в кресле.
- А, ну вас...
Букин угрюмо опустился на скамью. Было огромное, важное в его темных
словах, было что-то грустно укоряющее и наивное. Это почувствовалось
всеми, и даже судьи прислушивались, как будто ожидая, не раздастся ли
эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики все замерло,
только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами,
усмехнулся, предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова постепенно
родились шепоты, возбужденно извиваясь по залу.
Мать, наклонясь
к Сизову, спросила:
- Будут судьи говорить?
- Все кончено... только приговор объявят...
- Больше ничего?
- Да...
Она не поверила ему.
Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая мать плечом и локтем,
и тихо говорила мужу:
- Как же это? Разве так можно?
- Видишь - можно!
- Что же будет ему, Грише-то?
- Отвяжись...
Во всех чувствовалось
что-то сдвинутое, нарушенное, разбитое, люди недоуменно мигали ослепленными
глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое, неясных очертаний,
непонятного значения, но вовлекающей силы. И, не понимая внезапно открывавшегося
великого, люди торопливо расходовали новое для них чувство на мелкое,
очевидное, понятное им. Старший Букин, не стесняясь, громко шептал:
- Позвольте, - почему не дают говорить? Прокурор может говорить все
сколько хочет...
У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей, вполголоса говорил:
- Тише! Тише...
Самойлов откинулся назад и за спиной жены гудел, отрывисто выбрасывая
слова:
- Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяснить! Против чего пошли
они? Я желаю понять! Я тоже имею свой интерес...
- Тише! - грозя ему пальцем, воскликнул чиновник.
Сизов угрюмо кивал головой.
А мать неотрывно
смотрела на судей и видела - они все более возбуждались, разговаривая
друг с другом невнятными голосами. Звук их говора, холодный и скользкий,
касался ее лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках, недужное,
противное ощущение во рту. Матери почему-то казалось, что они все говорят
о теле ее сына и товарищей его, о мускулах и членах юношей, полных горячей
крови, живой силы. Это тело зажигает в них нехорошую зависть нищих,
липкую жадность истощенных и больных. Они чмокают губами и жалеют эти
тела, способные работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь
тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от нее, уносят с
собой возможность владеть ими, использовать их силу, пожрать ее. И поэтому
юноши вызывают у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего
зверя, который видит свежую пищу, на уже не имеет силы схватить ее,
потерял способность насыщаться чужою силой и болезненно ворчит, уныло
воет, видя, что уходит от него источник сытости.
Эта мысль, грубая
и странная, принимала тем более яркую форму, чем внимательнее разглядывала
мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбужденной жадности и бессильного
озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине
и матери, которой тело сына всегда и все-таки дороже того, что зовется
душой, - ей было страшно видеть, как эти потухшие глаза ползали по его
лицу, ощупывали его грудь, плечи, руки, терлись о горячую кожу, точно
искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших
жилах, в изношенных мускулах полумертвых людей, теперь несколько оживленных
уколами жадности и зависти к молодой жизни, которую они должны были
осудить и отнять у самих себя. Ей казалось, что сын чувствует эти сырые,
неприятно щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит на нее.
Павел смотрел в
лицо матери немного усталыми глазами спокойно и ласково. Порою кивал
ей головой, улыбался.
"Скоро свобода!" - говорила ей эта улыбка и точно гладила
сердце матери мягкими прикосновениями.
Вдруг судьи встали все сразу. Мать тоже невольно поднялась на ноги.
- Пошли! - сказал Сизов.
- За приговором? - спросила мать.
- Да.
Ее напряжение вдруг
рассеялось, тело обняло душной истомой усталости, задрожала бровь, и
на лбу выступил пот. Тягостное чувство разочарования и обиды хлынуло
в сердце и быстро переродилось в угнетающее душу презрение к судьям
и суду. Ощущая боль в бровях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянулась
- родственники подсудимых подходили к решетке, зал наполнился гулом
разговора. Она тоже подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплакала,
полная обиды и радости, путаясь в хаосе разноречивых чувств. Павел говорил
ей ласковые слова, хохол шутил и смеялся.
Все женщины плакали,
но больше по привычке, чем от горя. Горя, ошеломляющего внезапным, тупым
ударом, неожиданно и невидимо падающего на голову, не было, - было печальное
сознание необходимости расстаться с детьми, но и оно тонуло, растворялось
в впечатлениях, вызванных этим днем. Отцы и матери смотрели на детей
со смутным чувством, где недоверие к молодости, привычное сознание своего
превосходства над детьми странно сливалось с другим чувством, близким
уважению к ним, и печальная, безотвязная дума, как теперь жить, притуплялась
о любопытство, возбужденное юностью, которая смело и бесстрашно говорит
о возможности другой, хорошей жизни. Чувства сдерживались неумением
выражать их, слова тратились обильно, но говорили о простых вещах, о
белье и одежде, о необходимости беречь здоровье.
А брат Букина,
взмахивая руками, убеждал младшего брата:
- Именно - справедливость! И больше ничего! Младший Букин отвечал:
- Ты скворца береги...
- Будет цел!..
А Сизов держал племянника за руку и медленно говорил:
- Так, Федор, значит, поехал ты...
Федя наклонился и прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный
солдат тоже улыбнулся, но тотчас же сделал суровое лицо и крякнул.
Мать говорила с
Павлом, как и другие, о том же - о платье, о здоровье, а в груди у нее
толкались десятки вопросов о Саше, о себе, о нем. Но подо всем этим
лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряженное
желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло,
оставив по себе только неприятную дрожь при воспоминании о судьях да
где-то в стороне темную мысль о них. Чувствовала она в себе зарождение
большой, светлой радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что хохол
говорит со всеми, понимая, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она
заговорила с ним:
- Не понравился мне суд!
- А почему, ненько? - благодарно улыбаясь, воскликнул хохол. – Стара
мельница, а - не бездельница...
- И не страшно,
и не понятно людям - чья же правда? – нерешительно сказала она.
- Ого, чего вы захотели! - воскликнул Андрей. - Да разве здесь о правде
тягаются?..
Вздохнув и улыбаясь, она сказала:
- Я ведь думала, что - страшно...
- Суд идет!
Все быстро кинулись на места.
Упираясь одною рукою о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал
читать ее слабо жужжавшим, шмелиным голосом.
- Приговаривает! - сказал Сизов вслушиваясь. Стало тихо. Все встали,
глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой,
которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли: волостной - наклонив
голову на плечо и глядя в потолок, голова - скрестив на груди руки,
предводитель дворянства - поглаживая бороду. Судья с больным лицом,
его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сторону подсудимых. А сзади
судей, с портрета, через их головы, смотрел царь, в красном мундире,
с безразличным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насекомое.
- На поселение!
- облегченно вздохнув, сказал Сизов. - Ну, кончено,
слава тебе, господи! Говорилось - каторга! Ничего, мать! Это ничего!
- Я ведь - знала, - ответила она усталым голосом.
- Все-таки! Теперь уж верно! А то кто их знает? - Он обернулся к
осужденным, которых уже уводили, и громко сказал:
- До свиданья, Федор! И - все! Дай вам бог! Мать молча кивала головой
сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно.
>>
продолжение >>