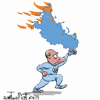| На семнадцатом году
своей жизни Клим Самгин был стройным юношей среднего роста, он передвигался
по земле неспешной, солидной походкой, говорил не много, стараясь выражать
свои мысли точно и просто, подчеркивая слова умеренными жестами очень
белых рук с длинными кистями и тонкими пальцами музыканта. Его суховатое,
остроносое лицо украшали дымчатого цвета очки, прикрывая недоверчивый
блеск голубоватых, холодных глаз, а негустые, но жесткие волосы, остриженные,
по форме, коротко, и аккуратный мундир подчеркивали его солидность. Не
отличаясь успехами в науках, он подкупал учителей благовоспитанностью
и благонравием. Сидел в шестом классе, но со своими одноклассниками держался
отчужденно; приятели у него были в седьмом и восьмом.
Известно было, что отец Тихон, законоучитель, славившийся
проницательностью ума, сказал на заседании педагогического совета о Климе:
- Струна разума его настроена благозвучно и высоко. Особенно же ценю в
нем осторожное и скептическое даже отношение к тем пустякам, коими наше
юношество столь склонно увлекаться во вред себе.
Нестареющий, только еще более ссохшийся Ксаверий Ржига внушал Климу:
- Не сомневаясь в благоразумии твоем, скажу однако, что ты имеешь товарищей,
которые способны компрометировать тебя. Таков, назову, Иван Дронов, и
таков есть Макаров. Сказал.
Клим корректно и молча поклонился инспектору. Он знал своих
товарищей, конечно, лучше, чем Ржига, и хотя не питал к ним особенной
симпатии, но оба они удивляли его. Дронов все так же неутомимо и жадно
всасывал в себя все, что можно всосать. Учился он отлично, его считали
украшением гимназии, но Клим знал, что учителя ненавидят Дронова так же,
как Дронов тайно ненавидел их. Явно Дронов держался не только с учителями,
но даже с некоторыми из учеников, сыновьями влиятельных лиц, заискивающе,
но сквозь его льстивые речи, заигрывающие улыбки постоянно прорывались
то ядовитые, то небрежные словечки человека, твердо знающего истинную
цену себе.
Отец Тихон так характеризовал его:
- Оный Дронов, Иван, ведет себя подобно соглядатаю в земле Ханаанской.
Приплюснутый череп, должно быть, мешал Дронову расти вверх,
он рос в ширину. Оставаясь низеньким человечком, он становился широкоплечим,
его кости неуклюже торчали вправо, влево, кривизна ног стала заметней,
он двигал локтями так, точно всегда протискивался сквозь тесную толпу.
Клим Самгин находил, что горб не только не испортил бы странную фигуру
Дронова, но даже придал бы ей законченность.
Дронов жил в мезонине, где когда-то обитал Томилин, и комната
была завалена картонами, листами гербария, образцами минералов и книгами,
которые Иван таскал от рыжего учителя. Он не утратил влечения к фантазиям,
но теперь это уже не шло к нему. Климу даже казалось, что, фантазируя,
Дронов насилует себя. Не забыв свое намерение быть "получше Ломоносова",
он, изредка, хвастливо напоминал об этом. Клим находил, что голова Дронова
стала такой же все поглощающей мусорной ямой, как голова Тани Куликовой,
и удивлялся способности Дронова ненасытно поглощать "умственную пищу",
как говорил квартировавший во флигеле писатель Нестор Катин. Но к удивлению
Клима иногда примешивалось странное чувство: как будто Дронов обкрадывал
его. Дронов перестал шмыгать носом и начал как-то озабоченно, растерянно
похрюкивать:
- Хрумм... Ты думаешь, как образовался глаз? - спрашивал он. – Первый
глаз? Ползало какое-то слепое существо, червь, что ли, - как же оно прозрело,
а?
- Не знаю, - отвечал Клим, живя в других мыслях, а Дронов судорожно догадывался:
- Наверное - от боли. Тыкалось передним концом, башкой, в разные препятствия,
испытывало боль ударов, и на месте их образовалось зрительное чувствилище,
а?
- Может быть, - полусоглашался Клим.
- Это я открою, - обещал Дронов.
Он читал Бокля, Дарвина, Сеченова, апокрифы и творения
отцов церкви, читал "Родословную историю татар" Абдул-гази Багодур-хана
и, читая, покачивал головою вверх и вниз, как бы выклевывая со страниц
книги странные факты и мысли. Самгину казалось, что от этого нос его становился
заметней, а лицо еще более плоским. В книгах нет тех странных вопросов,
которые волнуют Ивана, Дронов сам выдумывает их, чтоб подчеркнуть оригинальность
своего ума.
- Лошадь, - называл его Макаров, не произнося звук "л".
Макаров тоже был украшением гимназии и героем ее: в течение
двух лет он вел с преподавателями упорную борьбу из-за пуговицы. У него
была привычка крутить пуговицы мундира; отвечая урок, он держал руку под
подбородком и крутил пуговицу, она всегда болталась у него, и нередко,
отрывая ее на глазах учителя, он прятал пуговицу в карман. Его наказывали
за это, ему говорили, что, если ворот мундира давит шею, нужно расширить
ворот. Это не помогало. У него вообще было много пороков; он не соглашался
стричь волосы, как следовало по закону, и на шишковатом черепе его торчали
во все стороны двуцветные вихры, темнорусые и светлее; казалось, что он,
несмотря на свои восемнадцать лет, уже седеет. Известно было, что он пьет,
курит, а также играет на биллиарде в грязных трактирах.
Он перевелся из другого города в пятый класс; уже третий
год, восхищая учителей успехами в науках, смущал и раздражал их своим
поведением. Среднего роста, стройный, сильный, он ходил легкой, скользящей
походкой, точно артист цирка. Лицо у него было не русское, горбоносое,
резко очерченное, но его смягчали карие, женски ласковые глаза и невеселая
улыбка красивых, ярких губ; верхняя уже поросла темным пухом.
Клим не понимал дружбы этих слишком различных людей. Дронов
рядом с Макаровым казался еще более уродливым и, видимо, чувствовал это.
Он говорил с Макаровым задорно взвизгивая и тоном человека, который, чего-то
опасаясь, готов к защите, надменно выпячивая грудь, откидывал голову,
бегающие глазки его останавливались настороженно, недоверчиво и как бы
ожидая необыкновенного. А в отношении Макарова к Дронову Клим наблюдал
острое любопытство, соединенное с обидной небрежностью более опытного
и зрячего к полуслепому; такого отношения к себе Клим не допустил бы.
Подсовывая Макарову книжку Дрэпера "Католицизм и наука",
Дронов требовательно взвизгивал:
- Тут доказывается, что монахи были врагами науки, а между тем Джордано
Бруно, Кампанелла, Морус...
- Пошли-ка ты все это к чорту, - советовал Макаров, раскуривая папиросу.
- Я хочу знать правду, - заявлял Дронов, глядя на Макарова подозрительно
и недружелюбно.
- О ней справься у Томилина или у Катина, они тебе скажут, - равнодушно,
с дымом, сказал Макаров. Однажды Клим спросил:
- Тебе нравится Дронов?
- Нравится? Нет, - решительно ответил Макаров. - Но в нем есть нечто раздражающе
непонятное мне, и я хочу понять.
Затем, подумав, он сказал небрежно:
- С такой рожей, как его, трудно жить.
- Почему?
- Н-ну... Ему нужно хорошо одеваться, носить особенную шляпу. С тросточкой
ходить. А то - как же девицы? Главное, брат, девицы. А они любят, чтобы
с тросточкой, с саблей, со стихами.
Сказав, Макаров стал тихонько насвистывать сквозь зубы.
Клим Самгин легко усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека. Упрощающие
мысли очень облегчали необходимость иметь обо всем свое мнение. Он выучился
искусно ставить свое мнение между да и нет, и это укрепляло за ним репутацию
человека, который умеет думать независимо, жить на средства своего ума.
После отзыва Макарова о Дронове он окончательно решил, что поиски Дроновым
правды - стремление вороны украсить себя павлиньими перьями. Сам живя
в тревожной струе этого стремления, он хорошо знал силу и обязательность
его.
Он считал товарищей глупее себя, но в то же время видел,
что оба они талантливее, интереснее его. Он знал, что мудрый поп Тихон
говорил о Макарове:
- Юноша - блестящий. Но однакож не следует забывать тонкое изречение знаменитого
Ганса Христиана Андерсена:
Позолота-то сотрется, Свиная кожа остается.
Климу очень хотелось стереть позолоту с Макарова, она ослепляла его, хотя
он и замечал, что товарищ часто поддается непонятной тревоге, подавлявшей
его. А Иван Дронов казался ему азартным игроком, который торопится всех
обыграть, действуя фальшивыми картами. Иногда Клим искренно недоумевал,
видя, что товарищи относятся к нему лучше, доверчивее, чем он к ним, очевидно,
они признавали его умнее, опытнее их. Но это честное недоумение являлось
ненадолго и только в те редкие минуты, когда, устав от постоянного наблюдения
над собою, он чувствовал, что идет путем трудным и опасным.
Макаров сам стер позолоту с себя; это случилось, когда
они сидели в ограде церкви Успения на Горе, любуясь закатом солнца.
Был один из тех сказочных вечеров, когда русская зима с покоряющей, вельможной
щедростью развертывает все свои холодные красоты. Иней на деревьях сверкал
розоватым хрусталем, снег искрился радужной пылью самоцветов, за лиловыми
лысинами речки, оголенной ветром, на лугах лежал пышный парчовый покров,
а над ним - синяя тишина, которую, казалось, ничто и никогда не поколеблет.
Эта чуткая тишина обнимала все видимое, как бы ожидая, даже требуя, чтоб
сказано было нечто особенно значительное.
Выпустив в морозный воздух голубую струю дыма папиросы,
Макаров внезапно спросил:
- Стихов не пишешь?
- Я? - удивился Клим. - Нет. А ты?
- Начал. Выходят скверно.
И как-то сразу, обиженно, грубо и бесстыдно он стал рассказывать:
- Вот уж почти два года ни о чем не могу думать, только о девицах. К проституткам
идти не могу, до этой степени еще не дошел. Тянет к онанизму, хоть руки
отрубить. Есть, брат, в этом влечения что-то обидное до слез, до отвращения
к себе. С девицами чувствую себя идиотом. Она мне о книжках, о разных
поэзиях, а я думаю о том, какие у нее груди и что вот поцеловать бы ее
да и умереть.
Он бросил недокуренную папиросу, она воткнулась в снег
свечой, огнем вверх, украшая холодную прозрачность воздуха кудрявой струйкой
голубого дыма. Макаров смотрел на нее и говорил вполголоса:
- Глупо, как два учителя. А главное, обидно, потому что - неодолимо. Ты
еще не испытал этого? Скоро испытаешь.
Он встал, раздавил подошвой папиросу и продолжал стоя, разглядывая прищуренными
глазами красно сверкавший крест на церкви:
- Дронов где-то вычитал, что тут действует "дух породы", что
"так хочет Венера". Черт их возьми, породу и Венеру, какое мне
дело до них? Я не желаю чувствовать себя кобелем, у меня от этого тоска
и мысли о самоубийстве, вот в чем дело!
Клим слушал с напряженным интересом, ему было приятно видеть,
что Макаров рисует себя бессильным и бесстыдным. Тревога Макарова была
еще не знакома Климу, хотя он, изредка, ночами, чувствуя смущающие запросы
тела, задумывался о том, как разыграется его первый роман, и уже знал,
что героиня романа - Лидия.
Макаров посвистел, сунул руки в карманы пальто, зябко поежился.
- Люба Сомова, курносая дурочка, я ее не люблю, то есть она мне не нравится,
а все-таки я себя чувствую зависимым от нее. Ты знаешь, девицы весьма
благосклонны ко мне, но...
"Не все", - мысленно закончил Клим, вспомнив, как неприязненно
относилась к Макарову Лидия Варавка.
- Идем, холодно, - сказал Макаров и угрюмо спросил: - Ты что молчишь?
- Что я могу сказать? - Клим пожал плечами. - Банальность: неизбежное
- неизбежно.
Несколько минут шли молча, поскрипывая снегом.
- Зачем так рано это начинается? Тут, брат, есть какое-то издевательство...
- тихо и раздумчиво сказал Макаров. Клим откликнулся не сразу:
- Шопенгауэр, вероятно, прав.
- А может быть, прав Толстой: отвернись от всего и гляди в угол. Но -
если отвернешься от лучшего в себе, а?
Клим Самгин промолчал, ему все приятнее было слушать печальные речи товарища.
Он даже пожалел, когда Макаров вдруг простился с ним и, оглянувшись, шагнул
на двор трактира.
- Поиграю на биллиарде, - сказал он, сердито хлопнув калиткой.
Истекшие годы не внесли в жизнь Клима событий, особенно
глубоко волновавших его. Все совершалось очень просто. Постепенно и вполне
естественно исчезали, один за другим, люди. Отец все чаще уезжал куда-то,
он как-то умалялся, таял и наконец совсем исчез. Перед этим он стал говорить
меньше, менее уверенно, даже как будто затрудняясь в выборе слов; начал
отращивать бороду, усы, но рыжеватые волосы на лице его росли горизонтально,
и, когда верхняя губа стала похожа на зубную щетку, отец сконфузился,
сбрил волосы, и Клим увидал, что лицо отцово жалостно обмякло, постарело.
Варавка говорил с ним словами понукающими.
- Н-ну-с, Иван Акимыч, так как же, а? Продали лесопилку?
Уши отца багровели, слушая Варавку, а отвечая ему, Самгин
смотрел в плечо его и притопывал ногой, как точильщик ножей, ножниц. Нередко
он возвращался домой пьяный, проходил в спальню матери, и там долго был
слышен его завывающий голосок. В утро последнего своего отъезда он вошел
в комнату Клима, тоже выпивши, сопровождаемый негромким напутствием матери:
- Прошу тебя, - пожалуйста, без драматических монологов.
- Ну, милый Клим, - сказал он громко и храбро, хотя губы у него дрожали,
а опухшие, красные глаза мигали ослепленно. - Дела заставляют меня уехать
надолго. Я буду жить в Финляндии, в Выборге. Вот как. Митя тоже со мной.
Ну, прощай.
Обняв Клима, он поцеловал его в лоб, в щеки, похлопал по спине и добавил:
- Дедушка тоже с нами. Да. Прощай. У... уважай мать, она достойна...
Не сказав, чего именно достойна мать, он взмахнул рукою и почесал подбородок.
Климу показалось, что он хотел ладонью прикрыть пухлый рот свой.
Когда дедушка, отец и брат, простившийся с Климом грубо
и враждебно, уехали, дом не опустел от этого, но через несколько дней
Клим вспомнил неверующие слова, сказанные на реке, когда тонул Борис Варавка:
"Да - был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?"
Ужас, испытанный Климом в те минуты, когда красные, цепкие руки, высовываясь
из воды, подвигались к нему, Клим прочно забыл; сцена гибели Бориса вспоминалась
ему все более редко и лишь как неприятное сновидение. Но в словах скептического
человека было что-то назойливое, как будто они хотели утвердиться забавной,
подмигивающей поговоркой:
"Может, мальчика-то и не было?"
Клим любил такие поговорки, смутно чувствуя их скользкую
двусмысленность и замечая, что именно они охотно принимаются за мудрость.
Ночами, в постели, перед тем как заснуть, вспоминая все, что слышал за
день, он отсевал непонятное и неяркое, как шелуху, бережно сохраняя в
памяти наиболее крупные зерна разных мудростей, чтоб, при случае, воспользоваться
ими и еще раз подкрепить репутацию юноши вдумчивого. Он умел сказать чужое
так осторожно, мимоходом и в то же время небрежно, как будто сказанное
им являлось лишь ничтожной частицей сокровищ его ума. И были удачные минуты
успеха, вспоминая которые, он сам любовался собою с таким же удивлением,
с каким люди любовались им.
Но почти всегда, вслед за этим, Клим недоуменно, с досадой,
близкой злому унынию, вспоминал о Лидии, которая не умеет или не хочет
видеть его таким, как видят другие. Она днями и неделями как будто даже
и совсем не видела его, точно он для нее бесплотен, бесцветен, не существует.
Вырастая, она становилась все более странной и трудной девочкой. Варавка,
улыбаясь в лисью бороду большой, красной улыбкой, говорил:
- В мать пошла. Та тоже мастерица была выдумывать. Выдумает и - верит.
Глагол - выдумывать, слово - выдумка отец Лидии произносил чаще, чем все
другие знакомые, и это слово всегда успокаивало, укрепляло Клима. Всегда,
но не в случае с Лидией, - случае, возбудившем у него очень сложное чувство
к этой девочке.
Летом, на другой год после смерти Бориса, когда Лидии минуло
двенадцать лет, Игорь Туробоев отказался учиться в военной школе и должен
был ехать в какую-то другую, в Петербург. И вот, за несколько дней до
его отъезда, во время завтрака, Лидия решительно заявила отцу, что она
любит Игоря, не может без него жить и не хочет, чтоб он учился в другом
городе.
- Он должен жить и учиться здесь, - сказала она, пристукнув по столу маленьким,
но крепким кулачком. - А когда мне будет пятнадцать лет и шесть месяцев,
мы обвенчаемся.
- Это - чепуха, Лидка, - строго сказал отец. - Я запрещаю...
Не пожелав узнать, что он запрещает, Лидия встала из-за
стола и ушла, раньше чем Варавка успел остановить её. В дверях, схватись
за косяк, она сказала:
- Это дело божие...
- Какая экзальтированная девочка, - заметила мать, одобрительно глядя
на Клима, - он смеялся. Засмеялся и Варавка.
Но раньше чем они успели кончить завтрак, явился Игорь Туробоев, бледный,
с синевой под глазами, корректно расшаркался пред матерью Клима, поцеловал
ей руку и, остановясь пред Варавкой, очень звонко объявил, что он любит
Лиду, не может ехать в Петербург и просит Варавку...
Не дослушав его речь, Варавка захохотал, раскачивая свое
огромное тело, скрипя стулом. Вера Петровна снисходительно улыбалась,
Клим смотрел на Игоря с неприятным удивлением, а Игорь стоял неподвижно,
но казалось, что он все вытягивается, растет. Подождав, когда Варавка
прохохотался, он все так же звонко сказал:
- И прошу вас сказать моему папа, что, если этого не будет, я убью себя.
Прошу вас верить. Папа не верит.
Несколько секунд мужчина и женщина молчали, переглядываясь,
потом мать указала Климу глазами на дверь; Клим ушел к себе смущенный,
не понимая, как отнестись к этой сцене. Из окна своей комнаты он видел:
Варавка, ожесточенно встряхивая бородою, увел Игоря за руку на улицу,
затем вернулся вместе с маленьким, сухоньким отцом Игоря, лысым, в серой
тужурке и серых брюках с красными лампасами. Они долго ходили по дорожке
сада, седые усы Туробоева непрерывно дрожали, он говорил что-то хриплым,
сорванным голосом, Варавка глухо мычал, часто отирая платком красное лицо,
и кивал головою. Пришла мать и строго приказала Климу:
- Тебе пора на урок, к Томилину. Ты, конечно, не станешь рассказывать
ему об этих глупостях.
Когда Клим возвратился с урока и хотел пройти к Лидии,
ему сказали, что это нельзя, Лидия заперта в своей комнате. Было необыкновенно
скучно и напряженно тихо в доме, но Климу казалось, что сейчас что-то
упадет со страшным грохотом. Ничего не упало. Мать и Варавка куда-то ушли,
а Клим вышел в сад и стал смотреть в окно комнаты Лидии. Девочка не появлялась
в окне, мелькала только растрепанная голова Тани Куликовой. Клим сел на
скамью и долго сидел, ни о чем не думая, видя пред собою только лица Игоря
и Варавки, желая, чтоб Игоря хорошенько высекли, а Лидию... Он долго соображал,
как нужно наказать ее, и не нашел для девочки наказания, которое не было
бы обидно и ему.
Мать и Варавка возвратились поздно, когда он уже спал.
Его разбудил смех и шум, поднятый ими в столовой, смеялись они, точно
пьяные. Варавка все пробовал петь, а мать кричала:
- Да не так! Не так же!..
Потом они перешли в гостиную, мать заиграла что-то веселое, но вдруг музыка
оборвалась. Клим задремал и был разбужен тяжелой беготней наверху, а затем
раздались крики:
- Что за дьявольская комедия! Лидии - нет. Татьяна дрыхнет, а Лидии -
нет! Вера, ты понимаешь?
Клим вскочил с постели, быстро оделся и выбежал в столовую,
но в ней было темно, лампа горела только в спальне матери. Варавка стоял
в двери, держась за косяки, точно распятый, он был в халате и в туфлях
на голые ноги, мать торопливо куталась в капот.
Климу велели разбудить Дронова и искать Лидию в саду, на дворе, где уже
виновато и негромко покрикивала Таня Куликова:
- Лида? Ну, что за глупости! Лидуша? Клим чувствовал себя невыразимо странно,
на этот раз ему казалось, что он участвует в выдумке, которая несравненно
интереснее всего, что он знал, интереснее и страшней. И ночь была странная,
рыскал жаркий ветер, встряхивая деревья, душил все запахи сухой, теплой
пылью, по небу ползли облака, каждую минуту угашая луну, все колебалось,
обнаруживая жуткую неустойчивость, внушая тревогу. Сонный и сердитый,
ходил на кривых ногах Дронов, спотыкался, позевывал, плевал; был он в
полосатых тиковых подштанниках и темной рубахе, фигура его исчезала на
фоне кустов, а голова плавала в воздухе, точно пузырь.
- Наверное, она к Туробоевым в сад убежала, - предположил Дронов.
Да, она была там, сидела на спинке чугунной садовой скамьи,
под навесом кустов. Измятая темнотой тонкая фигурка девочки бесформенно
сжалась, и было в ней нечто отдаленно напоминавшее большую белую птицу.
- Лида! - вскрикнул Клим.
- Что ты орешь, как полицейский, - сказал Дронов вполголоса и, грубо оттолкнув
Клима плечом, предложил Лиде:
- Что ж тут сидеть, идемте домой.
Клима возмутила грубость Дронова, удивил его ласковый голос
и обращение к Лидии на вы, точно ко взрослой.
- Его побили, да? - спросила девочка, не шевелясь, не принимая протянутой
руки Дронова. Слова ее звучали разбито, так говорят девочки после того,
как наплачутся.
- Я упала, как слепая, когда лезла через забор, - сказала она, всхлипнув.
- Как дура. Я не могу идти...
Клим и Дронов сняли ее, поставили на землю, но она, охнув,
повалилась, точно кукла, мальчики едва успели поддержать ее. Когда они
повели ее домой, Лидия рассказала, что упала она не перелезая через забор,
а пытаясь влезть по водосточной трубе в окно комнаты Игоря.
- Я хотела знать, что он делает...
- Спит, - сказал Дронов.
Лидия подняла руку ко рту и, высасывая кровь из-под сломанных ногтей,
замолчала.
На дворе Варавка в халате и татарской тюбетейке зарычал на дочь:
- Ты что же это делаешь?
Но вдруг испуганно схватил ее на руки, поднял:
- Что с тобой?
Тогда девочка голосом, звук которого Клим долго не мог забыть, сказала:
- Ах, папа, ты ничего не понимаешь! Ты не можешь... ты не любил маму!
- Шш! С ума сошла, - зашипел Варавка и убежал с нею в дом, потеряв сафьяновую
туфлю.
- Разыгралась коза, - тихонько сказал Дронов, усмехаясь. - Ну, что же,
пойду спать...
Но не ушел, а, присев на ступень кухонного крыльца, почесывая плечо, пробормотал:
- Придумала игру...
Клим шагал по двору, углубленно размышляя: неужели все
это только игра и выдумка? Из открытого окна во втором этаже долетали
ворчливые голоса Варавки, матери; с лестницы быстро скатилась Таня Куликова.
- Не запирайте ворот, я за доктором, - сказала она, выбегая на улицу.
Дронов бормотал сердито и насмешливо:
- Меня Ржига заставил Илиаду и Одиссею прочитать. Вот - чепуха! Ахиллесы,
Патроклы - болваны. Скука! Одиссея лучше, там Одиссей без драки всех надул.
Жулик, хоть для сего дня.
- Клим - спать! - строго крикнула Вера Петровна из окна. - Дронов, разбуди
дворника и тоже - спать.
Через несколько дней этот роман стал известен в городе,
гимназисты спрашивали Клима:
- Какая она?
Клим отвечал сдержанно, ему не хотелось рассказывать, но Дронов оживленно
болтал:
- Некрасивая, потому и влюбилась, красивая - не влюбится, шалишь!
Клим слушал его болтовню с досадой, но ожидая, что Дронов, может быть,
скажет что-то, что разрешит недоумение, очень смущавшее Клима.
- Я говорю ей: ты еще девчонка, - рассказывал Дронов мальчикам. - И ему
тоже говорю... Ну, ему, конечно, интересно; всякому интересно, когда в
него влюбляются.
Досадно было слышать, как Дронов лжет, но, видя, что эта
ложь делает Лидию героиней гимназистов, Самгин не мешал Ивану. Мальчики
слушали серьезно, и глаза некоторых смотрели с той странной печалью, которая
была уже знакома Климу по фарфоровым глазам Томилина.
Лидия вывихнула ногу и одиннадцать дней лежала в постели. Левая рука ее
тоже была забинтована. Перед отъездом Игоря толстая, задыхающаяся Туробоева,
страшно выкатив глаза, привела его проститься с Лидией, влюбленные, обнявшись,
плакали, заплакала и мать Игоря.
- Это смешно, а - хорошо, - говорила она, осторожно вытирая платком выпученные
глаза. - Хорошо, потому что не современно.
Варавка угрюмо промычал какое-то тяжелое и незнакомое слово.
Детей успокоили, сказав им: да, они жених и невеста, это решено; они обвенчаются,
когда вырастут, а до той поры им разрешают писать письма друг другу. Клим
скоро убедился, что их обманули. Лидия писала Игорю каждый день и, отдавая
письма матери Игоря, нетерпеливо ждала ответов. Но Клим подметил, что
письма Лидии попадают в руки Варавки, он читает их его матери и они оба
смеются. Лидия стала бесноваться, тогда ей сказали, что Игорь отдан в
такое строгое училище, где начальство не позволяет мальчикам переписываться
даже с их родственниками.
- Это - как монастырь, - лгал он, а Климу хотелось крикнуть
Лидии:
"Твои письма в кармане у него".
Но Клим видел, что Лида, слушая рассказы отца поджав губы, не верит им.
Она треплет платок или конец своего гимназического передника, смотрит
в пол или в сторону, как бы стыдясь взглянуть в широкое, туго налитое
кровью бородатое лицо. Клим все-таки сказал;
- Ты знаешь, что они тебя обманывают?
- Молчи! - крикнула Лидия, топнув ногою. - Это не твое дело, не тебя обманывают.
И папа не обманывает, а потому что боится...
Покраснев, сердитая, она убежала.
В гимназии она считалась одной из первых озорниц, а училась
небрежно. Как брат ее, она вносила в игры много оживления и, как это знал
Клим по жалобам на нее, много чего-то капризного, испытующего и даже злого.
Стала еще более богомольна, усердно посещала церковные службы, а в минуты
задумчивости ее черные глаза смотрели на все таким пронзающим взглядом,
что Клим робел пред нею.
К нему она относилась почти так же пренебрежительно и насмешливо, как
ко всем другим мальчикам, и уже не она Климу, а он ей предлагал:
- Хочешь - пойдем, поговорим?
Она редко и не очень охотно соглашалась на это и уже не рассказывала Климу
о боге, кошках, о подругах, а задумчиво слушала его рассказы о гимназии,
суждения об учителях и мальчиках, о прочитанных им книгах. Когда Клим
объявил ей новость, что он не верит в бога, она сказала небрежно:
- Это - глупость. У нас в классе тоже есть девочка, которая говорит, что
не верит, но это потому, что она горбатая.
За три года Игорь Туробоев ни разу не приезжал на каникулы.
Лидия молчала о нем. А когда Клим попробовал заговорить с нею о неверном
возлюбленном, она холодно заметила:
- О любви можно говорить только с одним человеком...
К пятнадцати годам Лидия вытянулась, оставаясь все
такой же тоненькой и легкой, пружинно подскакивающей на ходу. Она стала
угловатой, на плечах и бедрах ее высунулись кости, и хотя уже резко обозначились
груди, но они были острые, как локти, и неприятно кололи глаза Клима;
заострился нос, потемнели густые и строгие брови, а вспухшие губы стали
волнующе яркими. Лицо ее было хорошо знакомо Климу, тем более тревожно
удивлялся он, когда видел, что сквозь заученные им черты этого лица таинственно
проступает другое, чужое ему. Порою оно было так ясно видимо, что Клим
готов был спросить девушку:
"Это вы?"
Иногда он спрашивал:
- Что с тобою?
- Ничего, - отвечала она с легким удивлением. - А что?
- У вас изменилось лицо.
- Да? Как же?
На этот вопрос он не умел ответить. Иногда он говорил ей вы, не замечая
этого, она тоже не замечала.
Его особенно смущал взгляд
глаз ее скрытого лица, именно он превращал ее в чужую. Взгляд этот, острый
и зоркий, чего-то ожидал, искал, даже требовал и вдруг, становясь пренебрежительным,
холодно отталкивал. Было странно, что она разогнала всех своих кошек и
что вообще в ее отношении к животным явилась какая-то болезненная брезгливость.
Слыша ржанье лошади, она вздрагивала и морщилась, туго кутая грудь шалью;
собаки вызывали у нее отвращение; даже петухи, голуби были явно неприятны
ей.
И мысли у нее стали так же резко очерчены, угловаты, как ее тело.
- Учиться - скучно, - говорила она. - И зачем знать то, чего я сама не
могу сделать или чего никогда не увижу?
Однажды она сказала Климу:
- Ты много знаешь. Должно быть, это очень неудобно.
Таня Куликова, домоправительница Варавки, благожелательно и покорно улыбаясь
всему на свете, говорила о Лидии, как мать Клима о своих пышных волосах:
- Мучение мое.
Но говорила без досады, а ласково и любовно. На висках у нее появились
седые волосы, на измятом лице - улыбка человека, который понимает, что
он родился неудачно, не вовремя, никому не интересен и очень виноват во
всем этом.
Во флигеле поселился веселый писатель Нестор Николаевич
Катин с женою, сестрой и лопоухой собакой, которую он назвал Мечта. Настоящая
фамилия писателя была Пимов, но он избрал псевдоним, шутливо объясняя
это так:
- Ведь у нас не произносят: Нестор, а - Нестер, и мне пришлось бы подписывать
рассказы Нестерпимов. Убийственно. К тому же теперь в моде производить
псевдонимы по именам жен: Верин, Валин, Сашин, Машин...
Был он мохнатенький, носил курчавую бородку, шея его была
расшита колечками темных волос, и даже на кистях рук, на сгибах пальцев
росли кустики темной шерсти. Живой, очень подвижной, даже несколько суетливый
человек и неустанный говорун, он напоминал Климу отца. На его волосатом
лице маленькие глазки блестели оживленно, а Клим все-таки почему-то подозревал,
что человек этот хочет казаться веселее, чем он есть. Говоря, он склонял
голову свою к левому плечу, как бы прислушиваясь к словам своим, и раковина
уха его тихонько вздрагивала.
Он употреблял церковнославянские слова: аще, ибо, паче,
дондеже, поелику, паки и паки; этим он явно, но не очень успешно старался
рассмешить людей. Он восторженно рассказывал о красоте лесов и полей,
о патриархальности деревенской жизни, о выносливости баб и уме мужиков,
о душе народа, простой и мудрой, и о том, как эту душу отравляет город.
Ему часто приходилось объяснять слушателям незнакомые им слова: паморха,
мурцовка, мороки, сугрев, и он не без гордости заявлял:
- Я народную речь знаю лучше Глеба Успенского, он путает деревенское с
мещанским, а меня на этом не поймаешь, нет!
Нестор Катин носил косоворотку, подпоясанную узеньким ремнем,
брюки заправлял за сапоги, волосы стриг в кружок "a la мужик";
он был похож на мастерового, который хорошо зарабатывает и любит жить
весело. Почти каждый вечер к нему приходили серьезные, задумчивые люди.
Климу казалось, что все они очень горды и чем-то обижены. Пили чай, водку,
закусывая огурцами, колбасой и маринованными грибами, писатель как-то
странно скручивался, развертывался, бегал по комнате и говорил:
- Да, да, Степа, литература откололась от жизни, изменяет народу; теперь
пишут красивенькие пустячки для забавы сытых; чутье на правду потеряно...
Степа, человек широкоплечий, серобородый, голубоглазый,
всегда сидел в стороне от людей, меланхолически размешивал ложкой чай
в стакане и, согласно поматывая головой, молчал час, два. А затем вдруг,
размеренно, тусклым голосом он говорил о запросах народной души, обязанностях
интеллигенции и особенно много об измене детей священным заветам отцов.
Клим заметил, что знаток обязанностей интеллигенции никогда не ест хлебного
мякиша, а только корки, не любит табачного дыма, а водку пьет, не скрывая
отвращения к ней и как бы только по обязанности.
- Ты прав, Нестор, забывают, что народ есть субстанция, то есть первопричина,
а теперь выдвигают учение о классах, немецкое учение, гм...
Макаров находил, что в этом человеке есть что-то напоминающее
кормилицу, он так часто говорил это, что и Климу стало казаться - да,
Степа, несмотря на его бороду, имеет какое-то сходство с грудастой бабой,
обязанной молоком своим кормить чужих детей,
По воскресеньям у Катина собиралась молодежь, и тогда серьезные разговоры
о народе заменялись пением, танцами. Рябой семинарист Сабуров, медленно
разводя руками в прокуренном воздухе, как будто стоя плыл и приятным баритоном
убедительно советовал:
- "Выдь на Во-о-лгу..."
- "Чей стон", - не очень стройно подхватывал хор. Взрослые пели
торжественно, покаянно, резкий тенорок писателя звучал едко, в медленной
песне было нечто церковное, панихидное. Почти всегда после пения шумно
танцевали кадриль, и больше всех шумел писатель, одновременно изображая
и оркестр и дирижера. Притопывая коротенькими, толстыми ногами, он искусно
играл на небольшой, дешевой гармонии и ухарски командовал:
- Кавалеры наскрозь дам. Бросай свою, хватай чужую!
Это всех смешило, а писатель, распаляясь еще более, пел под гармонику
и в ритм кадрили:
Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
"Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца!"
Варавка сердито назвал это веселье:
- Рыбьи пляски.
Климу казалось, что писатель веселится с великим напряжением и даже отчаянно;
он подпрыгивал, содрогался и потел. Изображая удалого человека, выкрикивая
не свои слова, он честно старался рассмешить танцующих и, когда достигал
этого, облегченно ухал:
- Ух!
Затем снова начинал смешить нелепыми словами, комическими прыжками и подмигивал
жене своей, которая самозабвенно, с полусонной улыбкой на кукольном лице,
выполняла фигуры кадрили.
- Эх ты, мягкая! - кричал ей муж.
Жена, кругленькая, розовая и беременная, была неистощимо
ласкова со всеми. Маленьким, но милым голосом она, вместе с сестрой своей,
пела украинские песни. Сестра, молчаливая, с длинным носом, жила прикрыв
глаза, как будто боясь увидеть нечто пугающее, она молча, аккуратно разливала
чай, угощала закусками, и лишь изредка Клим слышал густой голос ее:
- Это - да! - Или: - В это трудно поверить. Она редко произносила что-нибудь
иное, кроме этих двух фраз.
Клим чувствовал себя не плохо у забавных и новых для него
людей, в комнате, оклеенной веселенькими, светлыми обоями. Все вокруг
было неряшливо, как у Варавки, но простодушно. Изредка являлся Томилин,
он проходил по двору медленно, торжественным шагом, не глядя в окна Самгиных;
войдя к писателю, молча жал руки людей и садился в угол у печки, наклонив
голову, прислушиваясь к спорам, песням. Торопливо вбегала Таня Куликова,
ее незначительное, с трудом запоминаемое лицо при виде Томилина темнело,
как темнеют от старости, фаянсовые тарелки.
- Как живете? - спрашивала она.
- Ничего, - отвечал Томилин тихо и будто с досадой.
Раза два-три приходил сам Варавка, посмотрел, послушал, а дома сказал
Климу и дочери, отмахнувшись рукой:
- Обычная русская квасоварня. Балаган, в котором показывают фокусы, вышедшие
из моды.
Клим подумал, что это сказано метко, и с той поры ему показалось,
что во флигель выметено из дома все то, о чем шумели в доме лет десять
тому назад. Но все-таки он понимал, что бывать у писателя ему полезно,
хотя иногда и скучно. Было несколько похоже на гимназию, с той однако
разницей, что учителя не раздражались, не кричали на учеников, но преподавали
истину с несомненной и горячей верой в ее силу. Вера эта звучала почти
в каждом слове, и, хотя Клим не увлекался ею, все же он выносил из флигеля
не только кое-какие мысли и меткие словечки, но и еще нечто, не совсем
ясное, но в чем он нуждался; он оценивал это как знание людей.
Макаров сосредоточенно пил водку, закусывал хрустящими
солеными огурцами и порою шептал в ухо Клима нечто сердитое:
- Заветы отцов! Мой отец завещал мне: учись хорошенько, негодяй, а то
выгоню, босяком будешь. Ну вот, я - учусь. Только не думаю, что здесь
чему-то научишься.
За молодежью ухаживали, но это ее стесняло; Макаров, Люба Сомова, даже
Клим сидели молча, подавленно, а Люба однажды заметила, вздохнув:
- Они так говорят, как будто сильный дождь, я иду под зонтиком и не слышу,
о чем думаю.
Только Иван Дронов требовательно и как-то излишне визгливо
ставил вопросы об интеллигенции, о значении личности в процессе истории.
Знатоком этих вопросов был человек, похожий на кормилицу; из всех друзей
писателя он казался Климу наиболее глубоко обиженным.
Прежде чем ответить на вопрос, человек этот осматривал всех в комнате
светлыми глазами, осторожно крякал, затем, наклонясь вперед, вытягивал
шею, показывая за левым ухом своим лысую, костяную шишку размером в небольшую
картофелину.
- Это вопрос глубочайшего, общечеловеческого значения, - начинал он высоким,
но несколько усталым и тусклым голосом; писатель Катин, предупреждающе
подняв руку и брови, тоже осматривал присутствующих взглядом, который
красноречиво командовал:
"Смирно! Внимание!"
- Но нигде в мире вопрос этот не ставится с такою остротой, как у нас,
в России, потому что у нас есть категория людей, которых не мог создать
даже высококультурный Запад, - я говорю именно о русской интеллигенции,
о людях, чья участь - тюрьма, ссылка, каторга, пытки, виселица, - не спеша
говорил этот человек, и в тоне его речи Клим всегда чувствовал нечто странное,
как будто оратор не пытался убедить, а безнадежно уговаривал.
Слова каторга, пытки, виселицы он употреблял так часто и
просто, точно это были обыкновенные, ходовые словечки; Клим привык слышать
их, не чувствуя страшного содержания этих слов. Макаров, все более скептически
поглядывая на всех, шептал:
- Говорит так, как будто все это было за триста лет до нас. Скисло молоко
у Кормилицы.
Из угла пристально, белыми глазами на Кормилицу смотрел Томилин и негромко,
изредка спрашивал:
- Вы обвиняете Маркса в том, что он вычеркнул личность из истории, но
разве не то же самое сделал в "Войне и мире" Лев Толстой, которого
считают анархистом?
Томилина не любили и здесь. Ему отвечали скупо, небрежно.
Клим находил, что рыжему учителю нравится это и что он нарочно раздражает
всех. Однажды писатель Катин, разругав статью в каком-то журнале, бросил
журнал на подоконник, но книга упала на пол; Томилин сказал:
- А вот икону вы, неверующий, все-таки не швырнули бы так, а ведь в книге
больше души, чем в иконе.
- Души? - смущенно и сердито переспросил писатель и неловко, но сердитее
прибавил: - При чем здесь душа? Это статья публицистическая, основанная
на данных статистики. Душа!
Писатель был страстным охотником и любил восхищаться природой.
Жмурясь, улыбаясь, подчеркивая слова множеством мелких жестов, он рассказывал
о целомудренных березках, о задумчивой тишине лесных оврагов, о скромных
цветах полей и звонком пении птиц, рассказывал так, как будто он первый
увидал и услышал все это. Двигая в воздухе ладонями, как рыба плавниками,
он умилялся:
- И всюду непобедимая жизнь, все стремится вверх, в небо, нарушая закон
тяготения к земле. Томилин спросил, потирая руки:
- Как же это вы, заявляя столь красноречиво о своей любви к живому, убиваете
зайцев и птиц только ради удовольствия убивать? Как это совмещается?
Писатель повернулся боком к нему и сказал ворчливо:
- Тургенев и Некрасов тоже охотились. И Лев Толстой в молодости и вообще
- многие. Вы толстовец, что ли?
Томилин усмехнулся и вызвал сочувственную усмешку Клима;
для него становился все более поучительным независимый человек, который
тихо и упрямо, ни с кем не соглашаясь, умел говорить четкие слова, хорошо
ложившиеся в память. Судорожно размахивая руками, краснея до плеч, писатель
рассказывал русскую историю, изображая ее как тяжелую и бесконечную цепь
смешных, подлых и глупых анекдотов. Над смешным и глупым он сам же первый
и смеялся, а говоря о подлых жестокостях власти, прижимал ко груди своей
кулак и вертел им против сердца. Всегда было неловко видеть, что после
пламенной речи своей он выпивал рюмку водки, закусывая корочкой хлеба,
густо намазанной горчицей.
- Читайте "Историю города Глупова" - вот подлинная и честная
история России, - внушал он.
Макаров слушал речи писателя, не глядя на него, крепко
сжав губы, а потом говорил товарищам:
- Что он хвастается тем, что живет под надзором полиции? Точно это его
пятерка за поведение.
В другой раз, наблюдая, как извивается и корчится писатель, он сказал
Лидии:
- Видите, с каким трудом родится истина?
Нахмурясь, Лидия отодвинулась от него.
Она редко бывала во флигеле, после первого же визита она, просидев весь
вечер рядом с ласковой и безгласной женой писателя, недоуменно заявила:
- Почему они так кричат? Кажется, что вот сейчас начнут бить друг друга,
а потом садятся к столу, пьют чай, водку, глотают грибы... Писательша
все время гладила меня по спине, точно я - кошка.
Лидия вздрогнула и, наморщив лоб, почти с отвращением добавила:
- И потом этот ее живот... не выношу беременных!
- Все вы - злые! - воскликнула Люба Сомова. - А мне эти люди нравятся;
они - точно повара на кухне перед большим праздником - пасхой или рождеством.
Клим взглянул на некрасивую девочку неодобрительно, он
стал замечать, что Люба умнеет, и это было почему-то неприятно. Но ему
очень нравилось наблюдать, что Дронов становится менее самонадеян и уныние
выступает на его исхудавшем, озабоченном лице. К его взвизгивающим вопросам
примешивалась теперь нота раздражения, и он слишком долго и громко хохотал,
когда Макаров, объясняя ему что-то, пошутил:
- Ну, что, Иван, чувствуешь ли, как науки юношей пытают?
- А все-таки, братцы, что же такое интеллигенция? - допытывался он.
Докторально, словами Томилина Клим ответил:
- Интеллигенция - это лучшие люди страны, - люди, которым приходится отвечать
за все плохое в ней... Макаров тотчас же подхватил:
- Значит, это те праведники, ради которых бог соглашался пощадить Содом,
Гоморру или что-то другое, беспутное? Роль - не для меня... Нет.
"Хорошо сказал", - подумал Клим и, чтоб оставить последнее слово
за собой, вспомнил слова Варавки:
- Есть и другой взгляд: интеллигент - высококвалифицированный рабочий
- и только. Но и тут Макаров догадался:
- Похоже на стиль Варавки.
Чувство скрытой неприязни к Макарову возрастало у Клима.
Макаров, посвистывая громко и дерзко, смотрел на все глазами человека,
который только что явился из большого города в маленький, где ему не нравится.
Он часто и легко говорил фразы и слова, не менее интересные, чем Варавка
и Томилин. Клим усердно старался развить в себе способность создания своих
слов, но почти всегда чувствовал, что его слова звучат отдаленным эхом
чужих. Повторялось то же, что было с книгами: рассказы Клима о прочитанном
были подробны, точны, но яркое исчезало. А Макаров даже и чужое умел сказать
вовремя и ловко.
Однажды он шел с Макаровым и Лидией на концерт пианиста,
- из дверей дворца губернатора два щеголя торжественно вывели под руки
безобразно толстую старуху губернаторшу и не очень умело, с трудом, стали
поднимать ее в коляску.
Вздохнув, Макаров сказал Лидии:
- Пушкин - прав: "Сладостное внимание женщин - почти единственная
цель наших усилий".
Лидия осторожно или неохотно усмехнулась, а Клим еще раз почувствовал
укол зависти.
Его раздражали непонятные отношения Лидии и Макарова, тут
было что-то подозрительное: Макаров, избалованный вниманием гимназисток,
присматривался к Лидии не свойственно ему серьезно, хотя говорил с нею
так же насмешливо, как с поклонницами его, Лидия же явно и, порою, в форме
очень резкой, подчеркивала, что Макаров неприятен ей. А вместе с этим
Клим Самгин замечал, что случайные встречи их все учащаются, думалось
даже: они и флигель писателя посещают только затем, чтоб увидеть друг
друга.
Особенно укрепила его в этом странная сцена в городском саду. Он сидел
с Лидией на скамье в аллее старых лип; косматое солнце спускалось в хаос
синеватых туч, разжигая их тяжелую пышность багровым огнем. На реке колебались
красновато-медные отсветы, краснел дым фабрики за рекой, ярко разгорались
алым золотом стекла киоска, в котором продавали мороженое. Осенний, грустный
холодок ласкал щеки Самгина.
Клим чувствовал себя нехорошо, смятенно; раскрашенная река
напоминала ему гибель Бориса, в памяти назойливо звучало: "Был ли
мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?" Ему очень хотелось сказать
Лидии что-нибудь значительное и приятное, он уже несколько раз пробовал
сделать это, но все-таки не удалось вывести девушку из глубокой задумчивости.
Черные глаза ее неотрывно смотрели на реку, на багровые тучи. Клим почему-то
вспомнил легенду, рассказанную ему Макаровым.
- Ты знаешь, - спросил он, - Климент Александрийский утверждал,
что ангелы, нисходя с небес, имели романы с дочерями человеческими.
Не отводя взгляда из дали, Лидия сказала равнодушно и тихо:
- Комплимент святого недорого стоит, я думаю... Ее равнодушие смутило
Клима, он замолчал, размышляя: почему эта некрасивая, капризная девушка
так часто смущает его? Только она и смущала.
Внезапно явился Макаров, в отрепанной шинели, в фуражке, сдвинутой на
затылок, в стоптанных сапогах. Он имел вид человека, который только что
убежал откуда-то, очень устал и теперь ему все равно.
"Надеется на свою дерзкую рожу", - подумал Клим. Молча сунув
руку товарищу, он помотал ею в воздухе и неожиданно, но не смешно отдал
Лидии честь, по-солдатски приложив пальцы к фуражке. Закурил папиросу,
потом спросил Лидию, мотнув головою на пожар заката:
- Красиво?
- Обычно, - ответила она, встала и пошла прочь, сказав:
- Я иду к Алине...
Пружинной походкой своей она отошла шагов двадцать. Макаров негромко проговорил:
- Какая тоненькая. Игла. Странная фамилия - Варавка...
Вдруг Лидия круто повернулась и снова села на скамью, рядом с Климом.
- Раздумала.
Макаров поправил фуражку, усмехнулся, согнул спину. И тотчас
началось нечто, очень тягостно изумившее Клима: Макаров и Лидия заговорили
так, как будто они сильно поссорились друг с другом и рады случаю поссориться
еще раз. Смотрели они друг на друга сердито, говорили, не скрывая намерения
задеть, обидеть.
- Красивое - это то, что мне нравится, - заносчиво говорила Лида, а Макаров
насмешливо возражал:
- Да - что вы? Не мало ли этого?
- Вполне достаточно для того, чтоб быть красивым. Сидя между ними, Клим
сказал:
- Спенсер определяет красоту...
Но его не услышали. Перебивая друг друга, они толкали его.
Макаров, сняв фуражку, дважды больно ударил козырьком ее по колену Клима.
Двуцветные, вихрастые волосы его вздыбились и придали горбоносому лицу
незнакомое Климу, почти хищное выражение. Лида, дергая рукав шинели Клима,
оскаливала зубы нехорошей усмешкой. У нее на щеках вспыхнули красные пятна,
уши стали яркокрасными, руки дрожали. Клим еще никогда не видел ее такой
злой.
Он чувствовал себя в унизительном положении человека, с
которым не считаются. Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел, удивленно
слушая Лидию. Она не любила читать книги, - откуда она знает то, о чем
говорит? Она вообще была малоречива, избегала споров и только с пышной
красавицей Алиной Телепневой да с Любой Сомовой беседовала часами, рассказывая
им - вполголоса и брезгливо морщась - о чем-то, должно быть, таинственном.
К гимназистам она относилась тоже брезгливо и не скрывала этого. Климу
казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на десять.
А вот с Макаровым, который, по мнению Клима, держался с нею нагло, она
спорит с раздражением, близким ярости, как спорят с человеком, которого
необходимо одолеть и унизить.
- Пора домой, Лида, - сказал он, сердито напоминая о себе.
Лидия тотчас встала, воинственно выпрямилась.
- Вы неудачно оригинальничаете, Макаров, - проговорила она торопливо,
но как будто мягче.
Макаров тоже встал, поклонился и отвел руку с фуражкой в сторону, как
это делают плохие актеры, играя французских маркизов.
В ответ ему девушка пошевелила бровями и быстро пошла прочь, взяв Клима
под руку.
- Отчего ты так рассердилась? - спросил он; поправляя волосы, закрывшие
ухо ее, она сказала возмущенно:
- Терпеть не могу таких... как это? Нигилистов. Рисуется, курит... Волосы
- пестрые, а нос кривой... Говорят, он очень грязный мальчишка?
Но, не ожидая ответа, она тотчас же отметила достоинства
осужденного ею:
- На коньках он катается великолепно. После этой сцены Клим почувствовал
нечто близкое уважению к девушке, к ее уму, неожиданно открытому им. Чувство
это усиливали толчки недоверия Лидии, небрежности, с которой она слушала
его. Иногда он опасливо думал, что Лидия может на чем-то поймать, как-то
разоблачить его. Он давно уже замечал, что сверстники опаснее взрослых,
они хитрее, недоверчивей, тогда как самомнение взрослых необъяснимо связано
с простодушием.
Но, побаиваясь Лидии, он не испытывал неприязни
к ней, наоборот, девушка вызывала в нем желание понравиться ей, преодолеть
ее недоверие. Он знал, что не влюблен в нее, и ничего не выдумывал в этом
направлении. Он был еще свободен от желания ухаживать за девицами, и сексуальные
эмоции не очень волновали его. Обычные, многочисленные романы гимназистов
с гимназистками вызывали у него только снисходительную усмешку; для себя
он cчитал такой роман невозможным, будучи уверен, что юноша, который носит
очки и читает серьезные книги, должен быть смешон в роли влюбленного.
Он даже перестал танцевать, находя, что танцы ниже его достоинства. Со
знакомыми девицами держался сухо, с холодной вежливостью, усвоенной от
Игоря Туробоева, и когда Алина Телепнева с восторгом рассказывала, как
Люба Сомова целовалась на катке с телеграфистом Иноковым, Клим напыщенно
молчал, боясь, что его заподозрят в любопытстве к романическим пустякам.
Тем более жестоко он был поражен, почувствовав себя влюбленным.
Началось это с того, что однажды, опоздав на урок,
Клим Самгин быстро шагал сквозь густую муть февральской метели и вдруг,
недалеко от желтого здания гимназии, наскочил на Дронова, - Иван стоял
на панели, держа в одной руке ремень ранца, закинутого за спину, другую
руку, с фуражкой в ней, он опустил вдоль тела.
- Исключили, - пробормотал он. На голове, на лице его таял снег, казалось,
что вся кожа лица, со лба до подбородка, сочится слезами.
- За что? - спросил Клим.
- Сволочи. Клим посоветовал: - Надень фуражку.
Иван поднял руку медленно, как будто фуражка была чугунной;
в нее насыпался снег, он так, со снегом, и надел ее на голову, но через
минуту снова снял, встряхнул и пошел, отрывисто говоря: - Это - Ржига.
И - поп. Вредное влияние будто бы. И вообще - говорит - ты, Дронов, в
гимназии явление случайное и нежелательное. Шесть лет учили, и - вот...
Томилин доказывает, что все люди на земле - случайное явление.
Клим шагал к дому, плечо в плечо с Дроновым, внимательно
слушая, но не удивляясь, не сочувствуя, а Дронов все бормотал, с трудом
находя слова, выцарапывая их. - Голову сняли, сволочи! Вредное влияние!
Просто - Ржига поймал меня, когда я целовался с Маргаритой.
- С ней? - переспросил Клим, замедлив шаг.
- Ну, да... А он сам, Ржига…
Но Клим уже не слушал, теперь он был удивлен и неприятно
неприязненно. Он вспомнил Маргариту, швейку, с круглым, бледным лицом,
с густыми тенями в впадинах глубоко посаженных глаз. Глаза у нее неопределенного,
желтоватого цвета, взгляд полусонный, усталый, ей, вероятно, уж под тридцать
лет. Она шьет и чинит белье матери, Варавки, его; она работает "по
домам".
Было обидно узнать, что Дронов и в отношении к женщине успел
забежать вперед его. - Что же она? - спросил Клим и остановился, не зная,
как сказать далее. - Только бы не снабдили волчьим билетом, - ворчал Дронов.
- Она позволяет тебе?
- Кто?
- Маргарита.
Дронов встряхнул плечом, точно отталкивая кого-то, и сказал: - Ну, какая
же баба не позволит?
- И давно ты с ней? - допрашивал Клим.
- Эх, отстань, - сказал Дронов, круто свернул за угол и тотчас исчез в
белой каше снега.
Клим пошел домой. Ему не верилось, что эта скромная швейка
могла охотно целовать Дронова, вероятнее, он целовал ее насильно. И -
с жадностью, конечно. Клим даже вздрогнул, представив, как Дронов, целуя,
чавкает, чмокает.
Дома, раздеваясь, он услыхал, что мать, в гостиной, разучивает
какую-то незнакомую ему пьесу.
- Почему так рано? - спросила она. Клим рассказал о Дронове и добавил:
- Я не пошел на урок, там, наверное, волнуются. Иван учился отлично, многим
помогал, у него немало друзей.
- Это разумно, что не пошел, - сказала мать; сегодня она, в новом голубом
капоте, была особенно молода и внушительно красива. Покусав губы, взглянув
в зеркало, она предложила сыну: - Посиди со мной.
И, расхаживая по комнате легкой, плавной походкой, она заговорила очень
мягко:
- Ржига предупредил меня, что с Иваном придется поступить строго. Он приносил
в класс какие-то запрещенные книжки и неприличные фотографии. Я сказала
Ржиге, что в книжках, наверное, нет ничего серьезного, это просто хвастовство
Дронова.
Клим солидно вставил свои слова:
- Да, хвастовство или обычное у детей и подростков влечение к пистолетам...
- Очень метко, - похвалила мать, улыбаясь. - Но соединение вредных книг
с неприличными картинками - это уже обнаруживает натуру испорченную. Ржига
очень хорошо говорит, что школа - учреждение, где производится отбор людей,
способных так или иначе украсить жизнь, обогатить ее. И - вот: чем ты
мог украсить жизнь Дронов? Клим усмехнулся. - Несколько странно, что Дронов
и этот растрепанный, полуумный Макаров - твои приятели. Ты так не похож
на них. Ты должен знать, что я верю в твою разумность и не боюсь за тебя.
Я думаю, что тебя влечет к ним их кажущаяся талантливость. Но я убеждена,
что эта талантливость - только бойкость и ловкость.
Клим согласно кивнул головою, ему очень понравились слова
матери. Он признавал, что Макаров, Дронов и еще некоторые гимназисты умнее
его на словах, но сам был уверен, что он умнее их не на словах, а как-то
иначе, солиднее, глубже. - Конечно, и ловкость - достоинство, но - сомнительное,
она часто превращается в недобросовестность, мягко говоря, - продолжала
мать, и слова ее все более нравились Климу. Он встал, крепко обнял ее
за талию, но тотчас же отвел свою руку, вдруг и впервые чувствуя в матери
женщину. Это так смутило его, что он забыл ласковые слова, которые хотел
сказать ей, он даже сделал движение в сторону от нее, но мать сама положила
руку на плечи его и привлекла к себе, говоря что-то об отце, Варавке,
о мотивах разрыва с отцом.
- Я должна была сказать тебе все это давно, - слышал он. - Но, повторяю,
зная, как ты наблюдателен и вдумчив, я сочла это излишним. Клим поцеловал
ей руку.
- Да, мама, - об этом излишне говорить. Ты знаешь, я очень уважаю Тимофея
Степановича.
Он переживал волнение, новое для него. За окном бесшумно
кипела густая, белая муть, в мягком, бесцветном сумраке комнаты все вещи
как будто задумались, поблекли; Варавка любил картины, фарфор, после ухода
отца все в доме неузнаваемо изменилось, стало уютнее, красивее, теплей.
Стройная женщина с суховатым, гордым лицом явилась пред юношей неиспытанно
близкой. Она говорила с ним, как с равным, подкупающе дружески, а голос
ее звучал необычно мягко и внятно.
- Меня беспокоит Лидия, - говорила она, шагая нога в ногу с сыном. Это
девочка ненормальная, с тяжелой наследственностью со стороны матери. Вспомни
ее историю с Туробоевым. Конечно, это детское, но... И у меня с нею не
те отношения, каких я желала бы.
Заглянув в глаза сына, она, улыбаясь, спросила:
- Ты - не влюблен в нее? Немножко, а?
- Нет, - решительно ответил Клим. Поговорив еще немного о Лидии в тоне
неодобрительном, мать спросила его, остановясь против зеркала:
- Тебе, наверное, не хватает карманных денег?
- Вполне достаточно...
- Милый мой, - сказала мать, обняв его, поцеловав лоб. - В твоем возрасте
можно уже не стыдиться некоторых желаний.
Тут Клим понял смысл ее вопроса о деньгах, густо покраснел
и не нашел, что сказать ей.
Пообедав, он пошел в мезонин к Дронову, там уже стоял, прислонясь к печке,
Макаров, пуская в потолок струи дыма, разглаживая пальцем темные тени
на верхней губе, а Дронов, поджав ноги под себя, уселся на койке в позе
портного и визгливо угрожал кому-то:
- Врете! В университет я все-таки пролезу. Тотчас же вслед за Климом дверь
снова отворилась, на пороге встала Лидия, прищурилась и спросила:
- Здесь коптят рыбу? Дронов грубо крикнул:
- Затворите дверь, не лето!
А Макаров, молча поклонясь девушке, закурил от окурка папиросы
другую.
- Какой скверный табак, - сказала Лидия, проходя к окну, залепленному
снегом, остановилась там боком ко всем и стала расспрашивать Дронова,
за что его исключили; Дронов отвечал ей нехотя, сердито. Макаров двигал
бровями, мигал и пристально, сквозь пелену дыма, присматривался к темнокоричневой
фигурке девушки.
- Зачем ты, Иван, даешь читать глупые книги? - заговорила Лидия, - Ты
дал Любе Сомовой "Что делать?", но ведь это же глупый роман!
Я пробовала читать его и - не могла. Он весь не стоит двух страниц "Первой
любви" Тургенева.
- Девицы любят кисло-сладкое, - сказал Макаров и сам, должно
быть, сконфузясь неудачной выходки, стал усиленно сдувать пепел с папиросы.
Лидия не ответила ему. В том, что она говорила, Клим слышал ее желание
задеть кого-то и неожиданно почувствовал задетым себя, когда она задорно
сказала:
- Мужчина, который уступает женщину другому, конечно, - тряпка.
Клим поправил очки и поучительно напомнил:
- Однако, если взять историю отношений Герцена...
- Краснобая "С того берега"? - спросила Лидия. Макаров засмеялся
и, ткнув папиросой в кафлю печки, размашисто бросил окурок к двери.
- Что, это веселит вас? - вызывающе спросила девушка, и через несколько
минут пред Климом повторилась та сцена, которую он уже наблюдал в городском
саду, но теперь Макаров и Лидия разыгрывали ее в более резком тоне.
Напряженно вслушиваясь в их спор, Клим слышал, что хотя
они кричат слова обычные, знакомые ему, но связь этих слов неуловима,
а смысл их извращается каждым из спорящих по-своему. Казалось, что, по
существу, спорить им не о чем, но они спорили раздраженно, покраснев,
размахивая руками; Клим ждал, что в следующую минуту они оскорбят друг
друга. Быстрые, резкие жесты Макарова неприятно напомнили Климу судорожное
мелькание рук утопающего Бориса Варавки. Большеглазое лицо Лидии сделалось
тем новым, незнакомым лицом, которое возбуждало смутную тревогу.
"Нет, они не влюблены, - соображал Самгин. - Не влюблены, это ясно!"
Дронов, сидя на койке, посматривал на спорящих бегающими
глазами и тихонько покачивался; плоскую физиономию его изредка кривила
снисходительная усмешка.
Лидия как-то вдруг сорвалась с места и ушла, сильно хлопнув дверью, Макаров
вытер ладонью потный лоб и скучно сказал:
- Сердитая.
Закурив папиросу, он прибавил:
- Умная. Ну, до свиданья...
Дронов усмехнулся вслед ему и свалился боком на койку.
- Ломаются, притворяются, - заговорил он тихо и закрыв глаза. Потом грубовато
спросил Клима, сидевшего за столом:
- Лидия-то - слышал? Задорно сказала: в любви - нет милосердия. А? Ух,
многим она шеи свернет.
Грубый тон Дронова не возмущал Клима после того, как Макаров однажды сказал:
- Ванька, в сущности, добрая душа, а грубит только потому, что не смеет
говорить иначе, боится, что глупо будет. Грубость у него - признак ремесла,
как дурацкий шлем пожарного.
Прислушиваясь к вою вьюги в печной трубе, Дронов продолжал
все тем же скучным голосом:
- Есть у меня знакомый телеграфист, учит меня в шахматы играть. Знаменито
играет. Не старый еще, лет сорок, что ли, а лыс, как вот печка. Он мне
сказал о бабах:
"Из вежливости говорится - баба, а ежели честно сказать - раба. По
закону естества полагается ей родить, а она предпочитает блудить".
И вдруг, вскочив, точно уколотый, он сказал, стукая кулаком в стену:
- Врете, черти! В университет я попаду, Томилин обещал помочь...
Терпеливо послушав, как Дронов ругал Ржигу, учителей, Клим небрежно спросил:
- Как же у тебя вышло с Маргаритой?
- Что - вышло? - не сразу отозвался Дронов.
- Ну, это - любовь?
- Любовь, - повторил Дронов задумчиво и опустив голову. - Так и вышло:
сначала - целовались, а потом все прочее. Это, брат, пустяковина...
Он снова заговорил о гимназии. Клим послушал его и ушел, не узнав того,
что хотелось знать.
Он чувствовал себя как бы приклеенным, привязанным к мыслям
о Лидии и Макарове, о Варавке и матери, о Дронове и швейке, но ему казалось,
что эти назойливые мысли живут не в нем, а вне его, что они возбуждаются
только любопытством, а не чем-нибудь иным. Было нечто непримиримо обидное
в том, что существуют отношения и настроения, непонятные ему. Размышления
о женщинах стали самым существенным для него, в них сосредоточилось все
действительное и самое важное, все же остальное отступило куда-то в сторону
и приобрело странный характер полусна, полуяви.
Полусном казалось и все, чем шумно жили во флигеле. Там
явился длинноволосый человек с тонким, бледным и неподвижным лицом, он
был никак, ничем не похож на мужика, но одет по-мужицки в серый, домотканного
сукна кафтан, в тяжелые, валяные сапоги по колено, в посконную синюю рубаху
и такие же штаны. Размахивая тонкими руками, прижимая их ко впалой груди,
он держал голову так странно, точно его, когда-то, сильно ударили в подбородок,
с той поры он, невольно взмахнув головой, уже не может опустить ее и навсегда
принужден смотреть вверх. Он убеждал людей отказаться от порочной городской
жизни, идти в деревню и пахать землю.
- Старо! - говорил человек, похожий на кормилицу, отмахиваясь;
писатель вторил ему:
- Пробовали. Ожглись.
Человек, переодетый мужиком, говорил тоном священника с амвона:
- Слепцы! Вы шли туда корыстно, с проповедью зла и насилия, я зову вас
на дело добра и любви. Я говорю священными словами учителя моего: опроститесь,
будьте детями земли, отбросьте всю мишурную ложь, придуманную вами, ослепляющую
вас.
Из угла, от печки, раздавался голос Томилина:
- Вы хотите, чтоб ювелиры ковали лемеха плугов? Но - не будет ли такое
опрощение - одичанием?
Клим слышал, что голос учителя стал громче, слова его звучали
увереннее и резче. Он все больше обрастал волосами и, видимо, все более
беднел, пиджак его был протерт на локтях почти до дыр, на брюках, сзади,
был вшит темносерый треугольник, нос заострился, лицо стало голодным.
Криво улыбаясь, он часто встряхивал головой, рыжие волосы, осыпая щеки,
путались с волосами бороды, обеими руками он терпеливо отбрасывал их за
уши. Он спокойнее всех спорил с переодетым в мужика человеком и с другим,
лысым, краснолицым, который утверждал, что настоящее, спасительное для
народа дело - сыроварение и пчеловодство.
Клима подавляло обилие противоречий и упорство, с которым
каждый из людей защищал свою истину. Человек, одетый мужиком, строго и
апостольски уверенно говорил о Толстом и двух ликах Христа - церковном
и народном, о Европе, которая погибает от избытка чувственности и нищеты
духа, о заблуждениях науки, - науку он особенно презирал.
- В ней сокрыты все основы наших заблуждений, в ней - яд, разрушающий
душу.
С дивана, из разорванной обивки которого бородато высовывалось
мочало, подскакивал маленький, вихрастый человек в пенснэ и басом, заглушая
все голоса, кричал:
- Варварство!
- Именно, - подтверждал писатель. Томилин с любопытством осведомлялся:
- Неужели вы считаете возможным и спасительным для нас возврат к мировоззрению
халдейских пастухов?
- Кустарь! Швейцария, - вот! - сиповатым голосом убеждал лысый человек
жену писателя. - Скотоводство. Сыр, масло, кожа, мед, лес и - долой фабрики!
Хаос криков и речей всегда заглушался мощным басом человека
в пенснэ; он был тоже писатель, составлял популярно-научные брошюры. Он
был очень маленький, поэтому огромная голова его в вихрах темных волос
казалась чужой на узких плечах, лицо, стиснутое волосами, едва намеченным,
и вообще в нем, во всей его фигуре, было что-то незаконченное. Но его
густейший бас обладал невероятной силой и, как вода угли, легко заливал
все крики. Выскакивая на середину комнаты, раскачиваясь, точно пьяный,
он описывал в воздухе руками круги и эллипсы и говорил об обезьяне, доисторическом
человеке, о механизме Вселенной так уверенно, как будто он сам создал
Вселенную, посеял в ней Млечный Путь, разместил созвездия, зажег солнца
и привел в движение планеты. Его все слушали внимательно, а Дронов - жадно
приоткрыв рот и не мигая - смотрел в неясное лицо оратора с таким напряжением,
как будто ждал, что вот сейчас будет сказано нечто, навсегда решающее
все вопросы.
Лицо человека, одетого мужиком, оставалось неподвижным,
даже еще более каменело, а выслушав речь, он тотчас же начинал с высокой
ноты и с амвона:
- Хотя астрономы издревле славятся домыслами своими о тайнах небес, но
они внушают только ужас, не говоря о том, что ими отрицается бытие духа,
сотворившего все сущее...
- Не всеми, - вставил Томилин. - Возьмите Фламмариона.
Но, не слушая или не слыша возражений, толстовец искусно
- как находил Клим - изображал жуткую картину: безграничная, безмолвная
тьма, в ней, золотыми червячками, дрожат, извиваются Млечные Пути, возникают
и исчезают миры.
- И среди бесчисленного скопления звезд, вкрапленных в непобедимую тьму,
затеряна ничтожная земля наша, обитель печалей и страданий; нуте-ко, представьте
ее и ужас одиночества вашего на ней, ужас вашего ничтожества в черной
пустоте, среди яростно пылающих солнц, обреченных на угасание.
Клим выслушивал эти ужасы довольно спокойно, лишь изредка
неприятный холодок пробегал по коже его спины. То, как говорили, интересовало
его больше, чем то, о чем говорили. Он видел, что большеголовый, недоконченный
писатель говорит о механизме Вселенной с восторгом, но и человек, нарядившийся
мужиком, изображает ужас одиночества земли во Вселенной тоже с наслаждением.
На Дронова эти речи действовали очень сильно. Он поеживался,
сокращался и, оглядываясь, шепотком спрашивал Клима или Макарова:
- Который, по-твоему, прав, а?
Судорожно чесал ногтем левую бровь и ворчал:
- Н-да, чорт... Надо учиться. На гроши гимназии не проживешь.
Макарова тоже не удовлетворяли жаркие споры у Катина.
- И знают много, и сказать умеют, и все это значительно, но хотя и светит,
а - не греет. И - не главное... Дронов быстро спросил:
- А что же главное?
- Глупо спрашиваешь, Иван! - ответил Макаров с досадой. - Если б я это
знал - я был бы мудрейшим из мудрецов...
Поздно ночью, после длительного боя на словах, они, втроем,
пошли провожать Томилина и Дронов поставил пред ним свой вопрос:
- Кто прав?
Шагая медленно, посматривая фарфоровыми глазами на звезды, Томилин нехотя
заговорил:
- Этому вопросу нет места, Иван. Это - неизбежное столкновение двух привычек
мыслить о мире. Привычки эти издревле с нами и совершенно непримиримы,
они всегда будут разделять людей на идеалистов и материалистов. Кто прав?
Материализм - проще, практичнее и оптимистичней, идеализм - красив, но
бесплоден. Он - аристократичен, требовательней к человеку. Во всех системах
мышления о мире скрыты, более или менее искусно, элементы пессимизма;
в идеализме их больше, чем в системе, противостоящей ему.
Помолчав, он еще замедлил ленивый свой шаг, затем - сказал:
- Я - не материалист. Но и не идеалист. А все эти люди...
Он махнул рукою за плечо свое:
- Они - малограмотны. Поэтому они - верующие. Они грубо, неумело повторяют
древние мысли. Конечно, всякая мысль имеет безусловную ценность. При серьезном
отношении к ней она, даже и неверно формулированная, может явиться возбудителем
бесконечного ряда других, как звезда, она разбрасывает лучи свои во все
стороны. Но абсолютная, чистая ценность мысли немедленно исчезает, когда
начинается процесс практической эксплуатации ее. Шляпы, зонтики, ночные
колпаки, очки и клизмы - вот что изготовляется из чистой мысли силою нашего
тяготения к покою, порядку и равновесию.
Приостановясь, он указал рукою за плечо свое.
- Хотя Байрон писал стихи, но у него нередко встречаешь глубокие мысли.
Одна из них: "Думающий менее реален, чем его мысль". Они, там,
не знают этого.
Кончил он ворчливо, сердито:
- Человек - это мыслящий орган природы, другого значения он не имеет.
Посредством человека материя стремится познать саму себя. В этом - всё.
Когда довели Томилина до его квартиры и простились с ним, Дронов сказал:
- Важничать начал, точно его в архиереи посвятили. А на штанах - заплата.
Все эти мысли, слова, впечатления доходили до сознания
Клима сквозь другое. Память, точно стремясь освободиться от излишнего
груза однообразных картин, назойливо воскрешала их. Как будто память с
таинственной силой разрасталась кустом, цветущим цветами, смотреть на
которые немного стыдно, очень любопытно и приятно. Его удивляло, как много
он видел такого, что считается неприличным, бесстыдным. Стоило на минуту
закрыть глаза, и он видел стройные ноги Алины Телепневой, неловко упавшей
на катке, видел голые, похожие на дыни, груди сонной горничной, мать на
коленях Варавки, писателя Катина, который целовал толстенькие колени полуодетой
жены его, сидевшей на столе.
Немая и мягонькая, точно кошка, жена писателя вечерами
непрерывно разливала чай. Каждый год она была беременна, и раньше это
отталкивало Клима от нее, возбуждая в нем чувство брезгливости; он был
согласен с Лидией, которая резко сказала, что в беременных женщинах есть
что-то грязное. Но теперь, после того как он увидел ее голые колени и
лицо, пьяное от радости, эта женщина, однообразно ласково улыбавшаяся
всем, будила любопытство, в котором уже не было места брезгливости.
Даже носатая ее сестра, озабоченно ухаживавшая за гостями,
точно провинившаяся горничная, которой необходимо угодить хозяевам, -
даже эта девушка, незаметная, как Таня Куликова, привлекала внимание Клима
своим бюстом, туго натянувшим ее ситцевую, пеструю кофточку. Клим слышал,
как писатель Катин кричал на нее:
- Я не виноват в том, что природа создает девиц, которые ничего не умеют
делать, даже грибы мариновать...
Тогда этот петушиный крик показался Климу смешным, а теперь
носатая девица с угрями на лице казалась ему несправедливо обиженной и
симпатичной не только потому, что тихие, незаметные люди вообще были приятны:
они не спрашивали ни о чем, ничего не требовали.
Как-то вечером Клим понес писателю новую книгу журнала. Катин встретил
его, размахивая измятым письмом, радостно крича:
- Знаете ли вы, юноша, что через две-три недели сюда приедет ваш дядя
из ссылки? Наконец, понемногу слетаются старые орлы!
В стене с треском лопнули обои, в щель приоткрытой двери
высунулось испуганное лицо свояченицы писателя.
- Началось, - сказала она и тотчас исчезла.
- Жена родит, подождите, она у меня скоро! - торопливо пробормотал Катин
и исчез в узкой, оклеенной обоями двери, схватив со стола дешевенькую
бронзовую лампу. Клим остался в компании полудюжины венских стульев, у
стола, заваленного книгами и газетами; другой стол занимал средину комнаты,
на нем возвышался угасший самовар, стояла немытая посуда, лежало разобранное
ружье-двухстволка. У стены прислонился черный диван с высунувшимися клочьями
мочала, а над ним портреты Чернышевского, Некрасова, в золотом багете
сидел тучный Герцен, положив одну ногу на колено свое, рядом с ним - суровое,
бородатое лицо Салтыкова. От всего этого веяло на Клима унылой бедностью,
не той, которая мешала писателю во-время платить за квартиру, а какой-то
другой, неизлечимой, пугающей, но в то же время и трогательной.
Минут через десять писатель выскочил из стены, сел на угол
стола и похвастался:
- Замечательно легко родит, а дети - не живут! И, наклонясь, упираясь
рукою в стол, он вполголоса, торопливо заговорил:
- Яков Самгин один из тех матросов корабля русской истории, которые наполняют
паруса его своей энергией, дабы ускорить ход корабля к берегам свободы
и правды.
Последовательно он назвал Якова Самгина рулевым, кузнецом,
апостолом и, возбужденно повторив: "Слетаются, слетаются орлы!"
- вскочил и скрылся за дверью, откуда доносились все более громкие стоны.
Клим поспешно ушел, опасаясь, что писатель спросит его о напечатанном
в журнале рассказе своем; рассказ был не лучше других сочинений Катина,
в нем изображались детски простодушные мужики, они, как всегда, ожидали
пришествия божьей правды, это обещал им сельский учитель, честно мыслящий
человек, которого враждебно преследовали двое: безжалостный мироед и хитрый
поп.
Дома Клим сообщил матери о том, что возвращается дядя,
она молча и вопросительно взглянула на Варавку, а тот, наклонив голову
над тарелкой, равнодушно сказал:
- Да, да, эти люди, которым история приказала подать в отставку, возвращаются
понемногу "из дальних странствий" У меня в конторе служат трое
таких. Должен признать, что они хорошие работники...
- Но? - спросила мать, Варавка ответил:
- Это - после.
Клим понял, что Варавка не хочет говорить при нем, нашел это неделикатным,
вопросительно взглянул на мать, но не встретил ее глаз, она смотрела,
как Варавка, усталый, встрепанный, сердито поглощает ветчину. Пришел Ржига,
за ним - адвокат, почти до полуночи они и мать прекрасно играли, музыка
опьянила Клима умилением, еще не испытанным, настроила его так лирически,
что когда, прощаясь с матерью, он поцеловал руку ее, то, повинуясь силе
какого-то нового чувства к ней, прошептал:
- Родная моя, милая.
Мать крепко обняла его, молча погладила щеку, поцеловала в лоб горячими
губами.
Когда он лег в постель, им тотчас овладело то непобедимое,
чем он жил. Вспомнилась его недавняя беседа с Макаровым; когда Клим сообщил
ему о романе Дронова с белошвейкой, Макаров пробормотал:
- Вот как? Скотина...
Он произнес эти три слова без досады и зависти, не брезгуя, не удивляясь
и так, что последнее слово прозвучало лишним. Потом усмехнулся и рассказал:
- Квартирохозяин мой, почтальон, учится играть на скрипке, потому что
любит свою мамашу и не хочет огорчать ее женитьбой. "Жена все-таки
чужой человек, - говорит он. - Разумеется - я женюсь, но уже после того,
как мамаша скончается". Каждую субботу он посещает публичный дом
и затем баню. Играет уже пятый год, но только одни упражнения и уверен,
что, не переиграв всех упражнений, пьесы играть "вредно для слуха
и руки". Макаров замолчал, нахмурился.
- Это к чему? - спросил Клим.
- Не знаю, - ответил Макаров, внимательно рассматривая дым папиросы. -
Есть тут какая-то связь с Ванькой Дроновым. Хотя - врет Ванька, наверное,
нет у него никакого романа. А вот похабными фотографиями он торговал,
это верно.
Тряхнув головою, он продолжал негромко и озлобленно:
- Ослиное настроение. Все - не важно, кроме одного. Чувствуешь себя не
человеком, а только одним из органов человека. Обидно и противно. Как
будто некий инспектор внушает: ты петух и ступай к назначенным тебе курам.
А я - хочу и не хочу курицу. Не хочу упражнения играть. Ты, умник, чувствуешь
что-нибудь эдакое?
- Нет, - решительно солгал Клим. Помолчали. Макаров сидел согнувшись,
положив ногу на ногу. Клим пристально посмотрел на него и спросил:
- Как же ты относишься к женщине?
- Со страхом божиим, - угрюмо сказал Макаров, встал, схватил фуражку.
- Пойду куда-нибудь.
Вспомнив эту сцену, Клим с раздражением задумался о Томилине. Этот человек
должен знать и должен был сказать что-то успокоительное, разрешающее,
что устранило бы стыд и страх. Несколько раз Клим - осторожно, а Макаров
- напористо и резко пытались затеять с учителем беседу о женщине, но Томилин
был так странно глух к этой теме, что вызвал у Макарова сердитое замечание:
- Притворяется, рыжий чорт!
- Должно быть, ожегся, - сказал Дронов, усмехаясь, и эта усмешка, заставив
Клима вспомнить сцену в саду, вынудила у него подозрение:
"Неужели - видел, знает?"
Только однажды, уступив упрямому натиску Макарова, учитель
сказал на ходу и не глядя на юношей:
- О женщине нужно говорить стихами; без приправы эта пища неприемлема.
Я - не люблю стихов. Возведя глаза в потолок, он посоветовал:
- Читайте "Метафизику любви" Шопенгауэра, в ней найдете все,
что вам нужно знать. Неглупой иллюстрацией к ней служит "Крейцерова
соната" Толстого.
Они, трое, всё реже посещали Томилина. Его обыкновенно
заставали за книгой, читал он - опираясь локтями о стол, зажав ладонями
уши. Иногда - лежал на койке, согнув ноги, держа книгу на коленях, в зубах
его торчал карандаш. На стук в дверь он никогда не отвечал, хотя бы стучали
три, четыре раза.
- Я - не женщина, - объяснил он, потом добавил: - Не нагой.
И, подумав, добавил еще:
- Не женат.
Шагая по комнате, он поучал:
- В мире идей необходимо различать тех субъектов, которые ищут, и тех,
которые прячутся. Для первых необходимо найти верный путь к истине, куда
бы он ни вел, хоть в пропасть, к уничтожению искателя. Вторые желают только
скрыть себя, свой страх пред жизнью, свое непонимание ее тайн, спрятаться
в удобной идее. Толстовец - комический тип, но он весьма законченно дает
представление о людях, которые прячутся.
Клим видел, что Макаров, согнувшись, следит за ногами учителя
так, как будто ждет, когда Томилин споткнется. Ждет нетерпеливо. Требовательно
и громко ставит вопросы, точно желая разбудить уснувшего, но ответов не
получает.
Слушая спокойный, задумчивый голос наставника, разглядывая его, Клим догадывался:
какова та женщина, которая могла бы полюбить Томилина? Вероятно, некрасивая,
незначительная, как Таня Куликова или сестра жены Катина, потерявшая надежды
на любовь. Но эти размышления не мешали Климу ловить медные парадоксы
и афоризмы.
- Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия, - слышал он. - Вера,
как удобная привычка, несравнимо вреднее сомнения. Допустимо, что вера,
в наиболее ярких ее выражениях, чувство ненормальное, может быть, даже
психическая болезнь: мы видим верующих истериками, фанатиками, как Савонарола
или протопоп Аввакум, в лучшем случае - это слабоумные, как, например,
Франциск Ассизский.
Изредка Дронов ставил вопросы социального характера, но
учитель или не отвечал ему, или говорил нехотя и непонятно. Из всех его
речей Клим запомнил лишь одно суждение:
- Ошибочно думать, что энергия людей, соединенных в организации, в партии,
- увеличивается в своей силе. Наоборот: возлагая свои желания, надежды,
ответственность на вождей, люди тем самым понижают и температуру и рост
своей личной энергии. Идеальное воплощение энергии - Робинзон Крузо.
Раньше всех от этих откровений уставал Макаров.
- Ну, нам пора, - говорил он грубовато. Томилин пожимал руки теплой и
влажной рукой, вяло улыбался и никогда не приглашал их к себе.
Макаров вел себя с Томилиным все менее почтительно; а однажды, спускаясь
по лестнице от него, сказал как будто нарочно громко:
- Рыжий напоминает мне тарантула. Я не видал этого насекомого, но в старинной
"Естественной истории" Горизонтова сказано: "Тарантулы
тем полезны, что, будучи настояны в масле, служат лучшим лекарством от
укусов, причиняемых ими же".
Его сердитая шутка заставила Дронова смеяться неприятно икающим смехом.
Вспоминая все это, Клим вдруг услышал в гостиной непонятный,
торопливый шорох и тихий гул струн, как будто виолончель Ржиги, отдохнув,
вспомнила свое пение вечером и теперь пыталась повторить его для самой
себя. Эта мысль, необычная для Клима, мелькнув, уступила место испугу
пред непонятным. Он прислушался: было ясно, что звуки родились в гостиной,
а не наверху, где иногда, даже поздно ночью, Лидия тревожила струны рояля.
Клим зажег свечу, взял в правую руку гимнастическую гирю и пошел в гостиную,
чувствуя, что ноги его дрожат. Виолончель звучала громче, шорох был слышней.
Он тотчас догадался, что в инструменте - мышь, осторожно положил его верхней
декой на пол и увидал, как из-под нее выкатился мышонок, маленький, как
черный таракан.
Во тьме кабинета матери вертикально и туго натянулась светлая
полоса огня, свет из спальни.
"Не спит. Расскажу ей о мышонке".
Но, подойдя к двери спальной, он отшатнулся: огонь ночной лампы освещал
лицо матери и голую руку, рука обнимала волосатую шею Варавки, его растрепанная
голова прижималась к плечу матери. Мать лежала вверх лицом, приоткрыв
рот, и, должно быть, крепко спала;
Варавка влажно всхрапывал и почему-то казался меньше, чем он был днем.
Во всем этом было нечто стыдное, смущающее, но и трогательное.
Возвратясь к себе, Клим лег в постель, глубоко взволнованный.
Пред ним, одна за другою, поплыли во тьме фигуры толстенькой Любы Сомовой,
красавицы Алины с ее капризно вздернутой губой, смелым взглядом синеватых
глаз, ленивыми движениями и густым, властным голосом. Лучше всех знакомая
фигура Лидии затемняла подруг ее; думая о ней, Клим терялся в чувстве
очень сложном и непонятном ему. Он понимал, что Лидия некрасива, даже
часто неприятна, но он чувствовал к ней непобедимое влечение. Его ночные
думы о девицах принимали осязаемый характер, возбуждая в теле тревожное,
почти болезненное напряжение, оно заставило Клима вспомнить устрашающую
книгу профессора Тарновского о пагубном влиянии онанизма, - книгу, которую
мать давно уже предусмотрительно и незаметно подсунула ему. Вскочив с
постели, он зажег лампу, взял желтенькую книжку Меньшикова "О любви".
Книжка оказалась скучной и не о той любви, которая волновала Самгина.
За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о полете
бесчисленной стаи птиц, о шорохе юбок во время танцев на гимназических
вечерах, которые устраивал Ржига.
Заснул Клим на рассвете, проснулся поздно, утомленным и
нездоровым. Воскресенье, уже кончается поздняя обедня, звонят колокола,
за окном хлещет апрельский дождь, однообразно звучит железо водосточной
трубы. Клим обиженно подумал:
"Неужели я должен испытать то же, что испытывает Макаров?"
О Макарове уже нельзя было думать, не думая о Лидии. При Лидии Макаров
становится возбужденным, говорит громче, более дерзко и насмешливо, чем
всегда. Но резкое лицо его становится мягче, глаза играют веселее.
- Верно, что Макарова хотят исключить из гимназии за пьянство? - равнодушно
спрашивала Лидия, и Клим понимал, что равнодушие ее фальшиво.
Дверь осторожно открылась, вошла новая горничная, толстая,
глупая, со вздернутым носом и бесцветными глазами.
- Мамаша спрашивает: кофей пить будете? Потому что скоро завтракать.
Белый передник туго обтягивал ее грудь. Клим подумал, что груди у нее,
должно быть, такие же твердые и жесткие, как икры ног.
- Не буду, - сердито сказал он. Он внезапно нашел, что роман Лидии с Макаровым
глупее всех романов гимназистов с гимназистками, и спросил себя:
"Может быть, я вовсе и не влюблен, а незаметно для себя поддался
атмосфере влюбленности и выдумал все, что чувствую?"
Но это соображение, не успокоив его, только почему-то напомнило полуумную
болтовню хмельного Макарова; покачиваясь на стуле, пытаясь причесать пальцами
непослушные, двухцветные вихры, он говорил тяжелым, пьяным языком:
- Физиология учит, что только девять из наших органов находятся в состоянии
прогрессивного развития и что у нас есть органы отмирающие, рудиментарные,
- понимаешь? Может быть, физиология - врет, а может быть, у нас есть и
отмирающие чувства. Представь, что влечение к женщине - чувство агонизирующее,
оттого оно так болезненно, настойчиво, а? Представь, что человек хочет
жить по теории Томилина, а? Мозг, вместилище исследующего, творческого
духа, чорт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок,
а? И, может быть онанизм, мужеложство - по сути их есть стремление к свободе
от женщины? Ну? Ты как думаешь?
Он спрашивал тогда, когда Клима еще не тревожили эти вопросы,
и пьяные слова товарища возбуждали у него лишь чувство отвращения. Но
теперь слова "свобода от женщины" показались ему неглупыми.
И почти приятно было напомнить себе, что Макаров пьет все больше хотя
становится как будто спокойней, а иногда так углубленно задумчив как будто
его внезапно поражала слепота и глухота. Клим подметил, что Макаров, закурив
папиросу не гасит спичку, а заботливо дает ей догореть в пепельнице до
конца или дожидается, когда она догорит в его пальцах, осторожно держа
ее за обгоревший конец. Многократно обожженная кожа на двух пальцах его
потемнела и затвердела, точно у слесаря.
Клим не спрашивал, зачем он делает это, он вообще предпочитал наблюдать,
а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Варавки:
"Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди".
Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора,
озаглавленной "Триумфы женщин". Он так пламенно и красноречиво
расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенькую книжку, внимательно
прочитал но не нашел в ней ничего достойного восхищения Автор скучно рассказывал
о любви Овидия и Коринны, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Бокаччио,
Фиаметты; книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов.
Клим долго и подозрительно размышлял, что же во всем этом увлекало товарища?
И, не открыв ничего, он спросил Макарова.
- Ты не понял? - удивился тот и, открыв книгу прочитал одну из первых
фраз предисловия автора:
- "Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной".
Вот - правда. Высота культуры определяется отношением к женщине, - понимаешь?
Клим утвердительно кивнул головой, а потом, взглянув в резкое лицо Макарова,
в его красивые, дерзкие глаза, тотчас сообразил, что "Триумфы женщин"
нужны Макарову ради цинических вольностей Овидия и Бокаччио, а не ради
Данта и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтоб
настроить Лидию на определенный лад.
"Как все просто, в сущности", - подумал
он, глядя исподлобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах,
турнирах, дуэлях.
Когда Клим вышел в столовую, он увидал мать, она безуспешно пыталась открыть
окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек, в грязных и длинных,
до колен, сапогах, стоял он закинув голову, открыв рот, и сыпал на язык,
высунутый, выгнутый лодочкой, белый порошок из бумажки.
- Это - дядя Яков, - торопливо сказала мать. - Пожалуйста, открой окно!
Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил
ее: Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал
из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно
блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил
стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника
темной, костлявой рукой, спросил глухо:
- Это - второй? Клим? А Дмитрий? Ага. Студент? Естественник, конечно?
- Говори громче, я глохну от хины, - предупредил Яков Самгин Клима, сел
к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг.
- Значит - явочной квартиры - нет? И кружков - нет? Странно. Что же теперь
делают?
Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись
ее ответа, Самгин сказал Климу:
- Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил двадцать лет в Ташкенте
и в Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать
дикарями. Да. Меня, в твои года, называли "I'homme qui rit"
[1].
Клим заметил, что дядя произнес: "Льём".
- Канавы копал. Арыки. Там, брат, лихорадка. Осмотрев столовую, дядя крепко
потер щеку.
- Гм, разбогател Иван. Как это он? Торгует?
И, еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах
Клима:
- Точно буфет на вокзале.
Он внес в столовую запах прелой кожи и еще
какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак
железного цвета, расстегнутый на груди, он показывал сероватую рубаху
грубого холста; на сморщенной шее, под острым кадыком, красный, шелковый
платок свернулся в жгут, платок был старенький и посекся на складках.
Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший
череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными, кожаными ушами,
- все это делало его похожим на старого солдата и на расстриженного монаха.
Но зубы его блестели бело и молодо, и взгляд серых глаз был ясен. Этот
несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей
и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного.
Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим, в столовой мебель потеряла
при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось
лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаминатора, мать
была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновато.
- Ну, что же, какие же у вас в гимназии кружки? -
слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно,
как Ржиге, отвечал:
- Толстовцы. Затем - экономисты... немного.
- Расскажи! - приказал дядя. - Толстовцы - секта? Я - слышал: устраивают
колонии в деревнях. Он качнул головою.
- Это - было. Мы это делали. Я ведь сектантов знаю, был пропагандистом
среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, Степняк писал
- Кравчинский - знаешь? Гусев - это я и есть.
Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но все же о толстовцах он
стал допытываться настойчиво:
- Ну, что ж они делают? Ну - колонии, а - потом?
Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна; хотелось
спросить: почему не подают завтрак? Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь
сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который
может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он, он же так занят
науками, что...
- Нам науки не мешали, - укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу,
и начал расспрашивать о писателе.
- Катин? Не знаю.
Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции, он улыбнулся:
- Ага, значит - из честных. В мое время честно писали Омулевский, Нефедов,
Бажин, Станюкович, Засодимский, Левитов был, это болтун. Слепцов - со
всячинкой... Успенский тоже. Их было двое, Успенских, один - побойчее,
другой - так себе. С усмешечкой.
Он задумался и вдруг спросил мать:
- Забыл я: Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь,
Вера, а? С богатым, видно? Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал? Гм...
А Иван - в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только
лечится? Здоровый был. Но - в принципах не крепок. Это все знали.
Говорил он громко, точно глухой, его сиповатый голос звучал властно. Краткие
ответы матери тоже становились все громче, казалось, что еще несколько
минут - и она начнет кричать.
- Тебе сколько - тридцать пять, семь? Моложава, - говорил Яков Самгин
и, вдруг замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил
водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу:
- Ну-ко, проведи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили...
По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек
заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.
- Дом - Ивана, собственный?
- Дедушки. Но его купил Варавка...
- Кто?
Клим не знал, как ответить, тогда дядя, взглянув в лицо ему, ответил сам:
- Понимаю - материн сожитель. Что же ты сконфузился? Это - дело обычное.
Женщины любят это - пышность и все такое. Какой ты, брат, щеголь, - внезапно
закончил он.
Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно,
точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо
говорил:
- Я вас из окна увидал и сразу почувствовал: это - он! Мне Сараханов писал
из Саратова...
Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что
темное, сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе.
- Ну, ну, - говорил он, усаживаясь на ветхий диван. - Вот как. Да. В Саратове
кое-кто есть. В Самаре какие-то... не понимаю. Симбирск - как нежилая
изба.
Он перечислил еще несколько приволжских городов и наконец
спросил:
- Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает,
- предупредил он и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал
пальцами мочки своих ушей; Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные
уши должны трещать от прикосновения к ним.
Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который
опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил
руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял:
- Тоже служил в земстве, статистик.
- В земстве - это хорошо! - одобрил дядя Яков, но прибавил: - Но этого
мало.
Потом, выгнув кадык, сказал вздохнув:
- Одичали вы.
- Это теперь называется поумнением, - виновато объяснил Катин. – Есть
даже рассказ на тему измены прошлому, так и называется: "Поумнел".
Боборыкин написал.
- Боборыкин - болтун! - решительно заявил дядя, подняв руку. - Вы ему
не подражайте, вы - молодой. Нельзя подражать Боборыкину.
Тихо открылась дверь, робко вошла жена писателя, он вскочил,
схватил ее за руку:
- Вот - жена, Екатерина, Катя.
Яков Самгин дружелюбно осмотрел женщину, улыбнулся:
- Поповна, а?
- Да!
- Облик! Не ошибешься. И дети есть?
- Всё умирают.
- Гм... А что теперь читает молодежь? Катин заговорил тише, менее оживленно.
Климу показалось, что, несмотря на радость, с которой писатель встретил
дядю, он боится его, как ученик наставника. А сиповатый голос дяди Якова
стал сильнее, в словах его явилось обилие рокочущих звуков.
Климу хотелось уйти, но он находил, что было бы неловко
оставить дядю. Он сидел в углу у печки, наблюдая, как жена писателя ходит
вокруг стола, расставляя бесшумно чайную посуду и посматривая на гостя
испуганными глазами. Она даже вздрогнула, когда дядя Яков сказал:
- Революцию не делают с антрактами. Клим обрадовался, когда пришла горничная
и позвала его завтракать. Дядя Яков отмахнулся от приглашения:
- Я питаюсь только вареным рисом, чаем, хлебом. И - кто же это завтракает
во втором часу? - спросил он, взглянув на стенные часы.
Дома в столовой ходил Варавка, нахмурясь, расчесывая бороду
черной гребенкой; он встретил Клима вопросом:
- А дядя?
- Он питается только вареным рисом. Молча сели за стол. Мать, вздохнув,
спросила:
- Как он тебе нравится? Угадав настроение, Клим ответил:
- Странный...
Мать, откачнувшись на спинку стула, прищурила глаза, говоря:
- Точно привидение.
- Голодающий индус, - поддержал ее сын.
- Ему не более пятидесяти, - вслух размышляла мать. - Он был веселый,
танцор, балагур. И вдруг ушел в народ, к сектантам. Кажется, у него был
неудачный роман.
Варавка вытер бороду, щедро налил всем вина в стаканы.
- У них у всех неудачный роман с историей. История - это Мессалина, Клим,
она любит связи с молодыми людьми, но - краткие. Не успеет молодое поколение
вволю поиграть, помечтать с нею, как уже на его место встают новые любовники.
Он крепко вытер бороду салфеткой и напористо начал поучать, что историю
делают не Герцены, не Чернышевские, а Стефенсоны и Аркрайты и что в стране,
где народ верит в домовых, колдунов, а землю ковыряет деревянной сохой,
стишками ничего не сделаешь.
- Прежде всего необходим хороший плуг, а затем уже - парламент. Дерзкие
словечки дешево стоят. Надо говорить словами, которые, укрощая инстинкты,
будили бы разум, - покрикивал он, все более почему-то раздражаясь и багровея.
Мать озабоченно молчала, а Клим невольно сравнил ее молчание с испугом
жены писателя. Во внезапном раздражении Варавки тоже было что-то общее
с возбужденным тоном Катина.
- Я думаю поместить его в мезонине, - тихо сказала мать.
- А - Дронов? - спросил Варавка.
- Да... Не знаю как... Варавка пожал плечами.
- Как хочешь.
Но дядя Яков отказался жить в мезонине.
- Мне вредно лазить по лестницам, у меня ноги болят, - сказал он и поселился
у писателя в маленькой комнатке, где жила сестра жены его. Сестру устроили
в чулане. Мать нашла, что со стороны дяди Якова бестактно жить не у нее,
Варавка согласился:
- Демонстрация...
Дядя Яков действительно вел себя не совсем обычно. Он не
заходил в дом, здоровался с Климом рассеянно и как с незнакомым; он шагал
по двору, как по улице, и, высоко подняв голову, выпятив кадык, украшенный
седой щетиной, смотрел в окна глазами чужого. Выходил он из флигеля почти
всегда в полдень, в жаркие часы, возвращался к вечеру, задумчиво склонив
голову, сунув руки в карманы толстых брюк цвета верблюжьей шерсти.
- Старый топор, - сказал о нем Варавка. Он не скрывал, что недоволен присутствием
Якова Самгина во флигеле. Ежедневно он грубовато говорил о нем что-нибудь
насмешливое, это явно угнетало мать и даже действовало на горничную Феню,
она смотрела на квартирантов флигеля и гостей их так боязливо и враждебно,
как будто люди эти способны были поджечь дом.
Волнуемый томлением о женщине, Клим чувствовал, что он
тупеет, линяет, становится одержимым, как Макаров, и до ненависти завидовал
Дронову, который хотя и получил волчий билет, но на чем-то успокоился
и, поступив служить в контору Варавки, продолжал упрямо готовиться к экзамену
зрелости у Томилина.
Не зная, что делать с собою, Клим иногда шел во флигель, к писателю. Там
явились какие-то новые люди: носатая фельдшерица Изаксон; маленький старичок,
с глазами, спрятанными за темные очки, то и дело потирал пухлые руки,
восклицая:
- Подписываюсь!
Являлся мастеровой, судя по рукам - слесарь; он тоже чаще всего говорил
одни и те же слова:
- Это нам нужно, как собаке пятая нога. Ставни окон были прикрыты, стекла
- занавешены, но жена писателя все-таки изредка подходила к окнам и, приподняв
занавеску, смотрела в черный квадрат. А сестра ее выбегала на двор, выглядывала
за ворота, на улицу, и Клим слышал, как она, вполголоса, успокоительно
сказала сестре:
- Никого, ни души.
Клим почти не вслушивался в речи и споры, уже знакомые
ему, они его не задевали, не интересовали. Дядя тоже не говорил ничего
нового, он был, пожалуй, менее других речист, мысли его были просты, сводились
к одному:
- Надо поднимать народ.
Клим шел во флигель тогда, когда он узнавал или видел, что туда пошла
Лидия. Это значило, что там будет и Макаров. Но, наблюдая за девушкой,
он убеждался, что ее притягивает еще что-то, кроме Макарова. Сидя где-нибудь
в углу, она куталась, несмотря на дымную духоту, в оранжевый платок и
смотрела на людей, крепко сжав губы, строгим взглядом темных глаз. Климу
казалось, что в этом взгляде да и вообще во всем поведении Лидии явилось
нечто новое, почти смешное, какая-то деланная вдовья серьезность и печаль.
- Что ты скажешь о дяде? - спросил он и очень удивился, услышав странный
ответ:
- Похож на Иоанна Предтечу, Как-то весенней ночью, выйдя из флигеля, гуляя
с Климом в саду, она сказала:
- Странно, что существуют люди, которые могут думать не только о себе.
Мне кажется, что в этом есть что-то безумное. Или - искусственное.
Клим взглянул на нее почти с досадой; она сказала как раз
то, что он чувствовал, но для чего не нашел еще слов.
- И потом, - продолжала девушка, - у них все как-то перевернуто. Мне кажется,
что они говорят о любви к народу с ненавистью, а о ненависти к властям
- с любовью. По крайней мере я так слышу.
- Но, разумеется, это не так, - сказал Клим, надеясь, что она спросит:
"Как же?" - и тогда он сумел бы блеснуть пред нею, он уже знал,
чем и как блеснет. Но девушка молчала, задумчиво шагая, крепко кутая грудь
платком; Клим не решился сказать ей то, что хотел.
Он находил, что Лидия говорит слишком серьезно и умно для ее возраста,
это было неприятно, а она все чаще удивляла его этим.
Через несколько дней он снова почувствовал, что Лидия обокрала
его. В столовой после ужина мать, почему-то очень настойчиво, стала расспрашивать
Лидию о том, что говорят во флигеле. Сидя у открытого окна в сад, боком
к Вере Петровне, девушка отвечала неохотно и не очень вежливо, но вдруг,
круто повернувшись на стуле, она заговорила уже несколько раздраженно:
- Отец тоже боится, что меня эти люди чем-то заразят. Нет. Я думаю, что
все их речи и споры - только игра в прятки. Люди прячутся от своих страстей,
от скуки; может быть - от пороков...
- Браво, дочь моя! - воскликнул Варавка, развалясь в кресле, воткнув в
бороду сигару. Лидия продолжала тише и спокойнее:
- Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, конечно,
как Яков Акимович. Он... я не знаю, как это сказать... он бросил себя
в жертву идее сразу и навсегда...
- Как слепой в яму упал, - вставил Варавка, а Клим, чувствуя, что он побледнел
от досады, размышлял: почему это случается так, что все забегают вперед
его? Слова Томилина, что люди прячутся друг от друга в идеях, особенно
нравились ему, он считал их верными.
- Это говорит Томилин, - с досадой сказал он.
- Я не сказала, что это мной придумано, - отозвалась Лидия.
- Ты слышала это от Макарова, - настаивал Клим.
- И - что же?
- Дядя Яков - жертва истории, - торопливо сказал Клим. - Он - не Иаков,
а - Исаак.
- Не понимаю, - сказала Лидия, подняв брови, а Клим, рассердясь на себя
за слова, на которые никто не обратил внимания, сердито пробормотал:
- Когда Макаров пьян, он говорит отчаянную чепуху. Он даже любовь называет
рудиментарным чувством.
Варавка неистово захохотал, размахивая сигарой. Вера Петровна, снисходительно
усмехаясь, заметила:
- Ему не знакомо понятие рудиментарный. Лидия посмотрела на них и тихо
пошла к двери. Климу показалось, что она обижена смехом отца, а Варавка
охал, отирая слезы:
- Хо-хо... ах, дети, дети!
Климу хотелось пойти за Лидией, поспорить с ней, но Варавка,
устав хохотать, обратился к нему и, сытым голосом, заговорил о школе:
- Не тому вас учат, что вы должны знать. Отечествоведение - вот наука,
которую следует преподавать с первых же классов, если мы хотим быть нацией.
Русь все еще не нация, и боюсь, что ей придется взболтать себя еще раз
так, как она была взболтана в начале семнадцатого столетия. Тогда мы будем
нацией - вероятно.
Оживляясь, он говорил о том, что сословия относятся друг к другу иронически
и враждебно, как племена различных культур, каждое из них убеждено, что
все другие не могут понять его, и спокойно мирятся с этим, а все вместе
полагают, что население трех смежных губерний по всем навыкам, обычаям,
даже по говору - другие люди и хуже, чем они, жители вот этого города.
Климу было скучно. Он не умел думать о России, народе,
человечестве, интеллигенции, все это было далеко от него. Из шестидесяти
тысяч жителей города он знал шестьдесят или сто единиц и был уверен, что
хорошо знает весь город, тихий, пыльный, деревянный на три четверти. Перед
городом лениво текла мутноватая река, над ним всходило солнце со стороны
монастырского кладбища и не торопясь, свершив свой путь, опускалось за
бойнями, на огородах. Не спеша никуда, смиренно жили дворяне, купцы, мещане,
ремесленники, пасомые духовенством и чиновниками.
И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий,
тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение
в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения
ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее
азартные и уже во всяком случае не полубезумные, каков измученный дядя
Яков.
Томилин стал для Клима единственным человеком вне сомнений
и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или
не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только
рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают
ли его. Жил он никому не мешая, не требуя, чтоб его посещали, как этого
требуют фамильярные любезности и улыбочки писателя Катина. К нему можно
было ходить и не ходить; он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии, тогда
как люди из флигеля вызывали тревожный интерес вместе со смутной неприязнью
к ним. В конце концов нужно было признать, что Макаров был прав, когда
сказал об этих людях:
- Тут каждый стремится выдрессировать меня, как собаку для охоты за дичью.
Клим тоже чувствовал это стремление, и, находя его своекорыстным,
угрожающим его личной свободе, он выучился вежливо отмалчиваться или полусоглашаться
каждый раз, когда подвергался натиску того или другого вероучителя.
Его сексуальные эмоции, разжигаемые счастливыми улыбочками Дронова, принимали
всё более тягостный характер; это уже замечено было Варавкой; как-то раз,
идя по коридору, он услыхал, что Варавка говорят матери:
- В его возрасте я был влюблен в родную тетку. Не беспокойся, он – не
романтик и не глуп. Жаль, что у нас горничная - уродище...
Цинизм упоминания о горничной покоробил Клима, неприятно было и то, что
его томление замечено, однако в общем спокойно сказанные слова Варавки
что-то разрешали.
Дня через два мать и Варавка ушли в театр. Лидия и Люба
Сомова - к Алине; Клим лежал в своей комнате, у него болела голова. В
доме было тихо, потом, как-то вдруг, в столовой послышался негромкий смех,
что-то звучно, как пощечина, шлепнулось, передвинули стул, и два женских
голоса негромко запели. Клим бесшумно встал, осторожно приоткрыл дверь:
горничная и белошвейка Рита танцевали вальс вокруг стола, на котором сиял,
точно медный идол, самовар.
- Раз, два, три, - вполголоса учила Рита. - Не толкай коленками.
Раз, два... - Горничная, склонив голову, озабоченно смотрела на свои ноги,
а Рита, увидав через ее плечо Клима в двери, оттолкнула ее и, кланяясь
ему, поправляя растрепавшиеся волосы обеими руками, сказала бойко и оглушительно:
- Ой, извините...
- Пожалуйста, пожалуйста, - торопливо заговорил Клим, спрятав руки в карманы.
- Я даже могу поиграть вам - хотите?
Сконфуженная горничная, схватив самовар, убежала, швейка начала собирать
со стола посуду на поднос, сказав:
- Нет, зачем же...
Клим неясно помнил все то, что произошло. Он действовал
в состоянии страха и внезапного опьянения; схватив Риту за руку, он тащил
ее в свою комнату, умоляя шопотом:
- Пожалуйста... пожалуйста...
Она, тихонько посмеиваясь, вырывала горячую руку свою из его рук и шла
рядом с ним, говоря тоже шопотом:
- Что это вы? Разве можно?
А потом, соскочив с постели, наклонилась над ним и, сжимая щеки его ладонями,
трижды поцеловала его в губы, задыхаясь и нашептывая:
- Ах вы, вы, вы!
Придя в себя, Клим изумлялся: как все это просто. Он лежал
на постели, и его покачивало; казалось, что тело его сделалось более легким
и сильным, хотя было насыщено приятной усталостью. Ему показалось, что
в горячем шопоте Риты, в трех последних поцелуях ее были и похвала и благодарность,
"А ведь я ничего не обещал", - подумал он и тотчас же спросил
себя: "Чем платит ей Дронов?"
Воспоминание о Дронове несколько охладило его, тут было нечто темненькое,
двусмысленное и дважды смешное. Точно оправдываясь пред кем-то, Клим Самгин
почти вслух сказал себе:
"Конечно, я больше не позволю себе этого с ней". - Но через
минуту решил иначе: "Скажу, чтоб она уже не смела с Дроновым..."
Он хотел зажечь лампу, встать, посмотреть на себя в зеркало,
но думы о Дронове связывали, угрожая какими-то неприятностями. Однако
Клим без особенных усилий подавил эти думы, напомнив себе о Макарове,
его угрюмых тревогах, о ничтожных "Триумфах женщин", "рудиментарном
чувстве" и прочей смешной ерунде, которой жил этот человек. Нет сомнения
- Макаров все это выдумал для самоукрашения, и, наверное, он втайне развратничает
больше других. Уж если он пьет, так должен и развратничать, это ясно.
Эти размышления позволяли Климу думать о Макарове с презрительной
усмешкой, он скоро уснул, а проснулся, чувствуя себя другим человеком,
как будто вырос за ночь и выросло в нем ощущение своей значительности,
уважения и доверия к себе. Что-то веселое бродило в нем, даже хотелось
петь, а весеннее солнце смотрело в окно его комнаты как будто благосклонней,
чем вчера. Он все-таки предпочел скрыть от всех новое свое настроение,
вел себя сдержанно, как всегда, и думал о белошвейке уже ласково, благодарно.
Дней через пять, прожитых в приятном сознании сделанного
им так просто серьезного шага, горничная Феня осторожно сунула в руку
его маленький измятый конверт с голубой незабудкой, вытисненной в углу
его, на атласной бумаге, тоже с незабудкой, Клим, не без гордости, прочитал:
"Ежели не забыли, приходите завтра, когда отблаговестят ко всенощной.
Тупой угол, дом Веселого, спросите Map. Ваганову".
Маргарита встретила его так, как будто он пришел не в первый,
а в десятый раз. Когда он положил на стол коробку конфет, корзину пирожных
и поставил бутылку портвейна, она спросила, лукаво улыбаясь:
- Значит - хотите чай пить? Обняв ее, Клим сказал:
- Я хочу, чтоб ты любила меня.
- Да я - не умею! - ответила женщина, смеясь очень добрым смехом.
Удивительно просто было с нею и вокруг нее в маленькой,
чистой комнате, полной странно опьяняющим запахом. В углу у стены, изголовьем
к окну, выходившему на низенькую крышу, стояла кровать, покрытая белым
пикейным одеялом, белая занавесь закрывала стекла окна; из-за крыши поднимались
бледнорозовые ветви цветущих яблонь и вишен. Оса билась в стекло. На комоде,
покрытом вязаной скатертью, стояло зеркало без рамы, аккуратно расставлены
коробочки, баночки; в углу светилась серебряная риза иконы, а угол у двери
был закрыт светлосерым куском коленкора. Все было необыкновенно спокойно,
тихо, жужжание осы - необходимо, все казалось удаленным от действительного
и привычного Климу на неизмеримые версты.
Маргарита говорила вполголоса, ленивенько растягивая пустые
слова, ни о чем не спрашивая. Клим тоже не находил, о чем можно говорить
с нею. Чувствуя себя глупым и немного смущаясь этим, он улыбался. Сидя
на стуле плечо в плечо с гостем, Маргарита заглядывала в лицо его поглощающим
взглядом, точно вспоминая о чем-то, это очень волновало Клима, он осторожно
гладил плечо ее, грудь и не находил в себе решимости на большее. Выпили
по две рюмки портвейна, затем Маргарита спросила:
- Ну, в постельку?
Тотчас же встав и раздеваясь, заботливо посоветовала:
- Ты тоже весь разденься, так лучше будет... А через час, сидя на постели,
спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно
зевнув:
- Надо заштопать.
Клим дремал.
После пяти, шести свиданий он чувствовал себя у Маргариты
более дома, чем в своей комнате. У нее не нужно было следить за собою,
она не требовала от него ни ума, ни сдержанности, вообще - ничего не требовала
и незаметно обогащала его многим, что он воспринимал как ценное для него.
Он стал смотреть на знакомых девушек другими глазами; заметил, что у Любы
Сомовой стесанные бедра, юбка на них висит плоско, а сзади слишком вздулась,
походка Любы воробьиная, прыгающая. Толстенькая и нескладная, она часто
говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее личико возбужденно
румянилось, в добрых, серых глазах светилось тихое умиление старушки,
которая повествует о чудесах, о житии святых, великомучеников. Это выходило
у нее наивно, даже иногда так трогательно, что Клим находил нужным поощрять
ее, на всякий случай, ласковыми улыбками, но думал:
"Блаженненькая. Дурочка".
Ее рассказы почти всегда раздражали Лидию, но изредка смешили
и ее. Смеялась Лидия осторожно, неуверенно и резкими звуками, а посмеявшись
немного, оглядывалась, нахмурясь, точно виноватая в неуместном поступке.
Сомова приносила романы, давала их читать Лидии, но, прочитав "Мадам
Бовари", Лидия сказала сердито:
- Все, что тут верно, - гадость, а что хорошо - ложь. К "Анне Карениной"
она отнеслась еще более резко:
- Тут все - лошади: и эта Анна, и Вронский, и все другие.
Сомова возмутилась:
- Бог мой, какая ты невежда, какой урод! Ты какая-то ненормальная!
Клим тоже находил в Лидии ненормальное; он даже стал несколько
бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела
так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение
к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с нею уже не
так насмешливо и задорно.
Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь
ослепительно красивой, явно и все более глупела, как это находил Клим
после слов матери, сказавшей:
- Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей.
Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота
являлась непрерывным источником непрерывной тревоги для девушки, Алина
относилась к себе, точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок
и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее
лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью, она испуганно спрашивала:
- Нос у меня очень красный? Глаза тусклые, да? Ничтожный прыщик на лице
повергал ее в уныние, так же как заусеницы или укус комара. Она боялась
потолстеть, похудеть, боялась грома.
- Пускай будут молнии, - говорила она. - Это даже красиво, но я совершенно
не выношу, когда надо мной трещит небо.
Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась
так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водою. На катке, боясь упасть,
она каталась одна в стороне и тихо или же с наиболее опытными конькобежцами,
в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась
Климу в этой девушке, было ее уменье устраиваться спокойно и удобно, она
всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней
луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти
болезненное отвращение к пыли, сору, уличной грязи; прежде чем сесть,
она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сидение;
подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так
аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей:
- Религиозно кушаете, Алиночка! Даже и не кушаете, подобно нам, смертным,
а - причащаетесь. Не взглянув на него, Алина спокойно ответила:
- Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно. Иногда страхи Алины за
красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной
на хозяйку, слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо
ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы,
вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее.
Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках,
но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности.
За нею уже ухаживал седой артиллерист, генерал, вдовец, стройный и красивый,
с умными глазами, ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек
с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий.
- Нет, я не хочу замуж, - низким, грудным голосом говорила
она, - я буду актрисой.
Она не плохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета,
Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали
обездушенно, слова стихов безжизненно, нечетко, смятые ее бархатным голосом.
Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпеваемых
ею.
- Кукла, которой жалко играть, - сказал о ней Макаров небрежно, как всегда
говорил о девицах.
Клим покосился на него, он все острей испытывал уколы зависти,
когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно
часто говорил меткие словечки.
Как во всех людях, Клим и в Алине хотел бы найти что-либо искусственное,
выдуманное. Иногда она спрашивала его:
- Я сегодня бледная, да?
Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтоб лишний
раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным
и даже возбуждало в нем сочувствие девушке. Оно усилилось после слов матери,
подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое
мешает ей жить, гонят почти каждые пять минут к зеркалу и заставляет девушку
смотреть на всех людей как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что
между ним и ей есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его,
не пытался подумать о ней серьезно.
Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке
Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого
Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал
Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая
длинные, интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу
на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий.
В общем дома жилось тягостно, скучно, но в то же время
и беспокойно. Мать с Варавкой, по вечерам, озабоченно и сердито что-то
считали, сухо шумя бумагами. Варавка, хлопая ладонью по столу, жаловался:
- Идиоты, даже украсть не умеют!
Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта
скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными
всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат
на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотою ее
чувств и мыслей. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она
пела маленьким, мяукающим голосом неслыханные песни:
Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Рите в гости,
Да не знаю, где она живет.
Попросил бы товарища -
Пусть товарищ отведет,
Мой товарищ лучше, краше,
Боюсь, Риту отобьет.
- Какая глупая песня, - сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила:
- Тем и хорошо, дружок. Все песни - глупые, все - про любовь, тем и хороши.
Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка
относится к нему матерински заботливо, это тоже было забавно, но и трогало
немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты, у него незаметно сложилось
мнение, что все девицы этого ремесла - жадные. Но когда он приносил сласти
и подарки Рите, она, принимая их, упрекала его:
- Чудачок! Ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти
девушку красивее и моложе, чем я!
Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить
ее во лжи.
Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая
ладонями грудь и бедра:
- Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая.
На стене, над комодом, была прибита двумя гвоздями маленькая фотография
без рамы, переломленная поперек, она изображала молодого человека, гладко
причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстуке, завязанном
пышным бантом. Глаза у него были выколоты.
- Это кто? - спросил Клим.
Несколько секунд Маргарита внимательно, прищурясь и как бы вспоминая,
смотрела на фотографию, потом сказала:
- Иконописец.
- А зачем у него глаза выколоты?
- Ослеп, дурак, - ответила Рита и, вздохнув, не пожелала больше отвечать
на дальнейшие расспросы Клима, а предложила:
- Ну, в постельку?
В нежную минуту он решился наконец спросить ее о Дронове;
он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше,
тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось
нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно
подняла брови:
- Кто это?
- Не притворяйся, - Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и
даже улыбнулся.
Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку,
прикрыв ею
лицо, заговорила сочувственно:
- Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине! Ты думаешь - я с ним путалась,
с эдаким: ни кожи, ни рожи? Плохо ты выдумал.
Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала
торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая:
- Жалко его. Это ведь при мне поп его выгнал, я в тот день работала у
попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную ущипнул, что ли.
Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что пожалуюсь попадье, отстал.
Он все-таки забавный, хоть и злой.
Другим тоном и тише она досказала:
- Выгнали из гимназии. Надрали бы уши, и - довольно!
Климу хотелось верить ей, он поверил, и тень Дронова, все-таки несколько
мешавшая ему, - исчезла.
Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены
была для этой девушки жертвенником, на котором Рита священнодействовала,
неутомимо и почти благоговейно. После успокоившей его беседы о Дронове
у Клима явилось желание делать для Риты, возможно чаще, приятное ей, но
ей были приятны только солодовые, на меду, пряники и поцелуи, иногда утомлявшие
его. И уже был день, когда ее понукающее приглашение: "Ну, в постельку"
- вдруг вызвало у него темное раздражение, какую-то непонятную обиду.
Он почти сердито стал спрашивать ее, почему она не читает книг, не ходит
в театр, не знает ничего лучше постельки, но Рита, видимо, не уловив его
тона, спросила спокойно, расплетая волосы:
- А куда иначе жизнь девать? Подумай-ка. И - некуда.
Затем рассказала, что в театры она ходит:
- Если там играют веселые комедии, водевили. Драмов я не люблю. В церковь
хожу, к Успенью, там хор - лучше соборного.
Порою Клим, усталый и чувствуя недовольство собою, осторожно размышлял:
"Вот это и есть - любовь?"
Почему-то невозможно было согласиться, что Лидия Варавка
создана для такой любви. И трудно было представить, что только эта любовь
лежит в основе прочитанных им романов, стихов, в корне мучений Макарова,
который становился все печальнее, меньше пил и говорить стал меньше да
и свистел тише.
Потом для Клима наступили дни, когда он, после свиданий с Маргаритой,
чувствовал себя настолько опустошенным, отупевшим, что это пугало его;
тогда он принуждал себя идти к источникам мудрости, к Томилину или во
флигель.
С Томилиным что-то случилось; он переоделся в цветные рубашки "фантазия",
носил вместо галстука шнур с кистями, серый пиджак и какие-то, сиреневого
цвета, очень широкие брюки. Все это казалось на теле его чужим и еще более
оттеняло огненную рыжеватость подстриженных волос, которые над ушами торчали
горизонтально и дыбились над его белым лбом. Особенно заметны были запонки
на обшлагах - большие, тяжелые, лунные серпики. Говорил Томилин громче,
но как будто менее уверенно, часто делал паузы и, поглядывая в рукав пиджака,
вертел запонки. И как будто у Томилина вместе с костюмом явились новые
мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей грубой обнаженностью,
которую можно было понять как бесстрашие и как бесстыдство. Иногда эти
голые мысли Клим представлял себе в форме клочьев едкого дыма, обрывков
облаков; они расползаются в теплом воздухе тесной комнаты и серой, грязноватой
пылью покрывают книги, стены, стекла окна и самого мыслителя.
Взвешивая на ладони один из пяти огромных томов Мориса
Карьера "Искусство в связи с общим развитием культуры", он говорил:
- Некий итальянец утверждает, что гениальность - одна из форм безумия.
Возможно. Вообще людей с преувеличенными способностями трудно признать
нормальными людьми. Возьмем обжор, сладострастников и... мыслителей. Да,
и мыслителей. Вполне допустимо, что чрезмерно развитый мозг есть такое
же уродство, как расширенный желудок или непомерно большой фаллос.
Тогда мы увидим нечто общее между Гаргантюа, Дон-Жуаном и философом Иммануилом
Кантом.
Это сопоставление понравилось Климу, как всегда нравились
ему упрощающее мысли. Он заметил, что и сам Томилин удивлен своим открытием,
видимо - случайным. Швырнув тяжелую книгу на койку, он шевелил бровями,
глядя в окно, закинув руки за шею, под свой плоский затылок.
- Да, - сказал он, мигнув. - Я должен идти вниз, чай пить. Гм...
Все чаще и как-то угрюмо Томилин стал говорить о женщинах, о женском,
и порою это у него выходило скандально. Так, когда во флигеле писатель
Катин горячо утверждал, что красота - это правда, рыжий сказал своим обычным
тоном человека, который точно знает подлинное лицо истины:
- Нет, красота именно - неправда, она вся, насквозь, выдумана человеком
для самоутешения, так же как милосердие и еще многое...
- А природа? А красота форм в природе? Возьмите Геккеля, - победоносно
кричал писатель, - в ответ ему поползли равнодушные слова:
- Природа - хаотическое собрание различных безобразий и уродств.
- Цветы! - не сдавался писатель.
- В природе нет таких роз и тюльпанов, какие созданы людями Англии, Франции,
Голландии.
Спор становился все раздраженней, сердитее, и чем более
возвышались голоса несогласных, тем более упрямо, угрюмо говорил Томилин.
Наконец он сказал:
- Красота более всего необходима нам, когда мы приближаемся к женщине,
как животное к животному. В этой области отношений красота возникла из
чувства стыда, из нежелания человека быть похожим на козла, на кролика.
Он сказал несколько слов еще более грубых и заглушил ими спор, вызвав
общее смущение, ехидные усмешки, иронический шопот. Дядя Яков, больной,
полулежавший на диване в груде подушек, спросил вполголоса, изумленно:
- Он сумасшедший?
Писатель, усмехаясь, что-то пошептал ему, но дядя, тряхнув лысой головой,
проговорил:
- Опоздал. Нигилисты рассуждали умнее.
Дядя, видимо, был чем-то доволен. Его сожженное лицо посветлело,
стало костлявее, но глаза смотрели добродушней, он часто улыбался. Клим
знал, что он собирается уехать в Саратов и жить там.
Во флигеле Клим чувствовал себя все более не на месте. Все, что говорилось
там о народе, о любви к народу, было с детства знакомо ему, все слова
звучали пусто, ничего не задевая в нем. Они отягощали скукой, и Клим приучил
себя не слышать их.
Его очень заинтересовали откровенно злые взгляды Дронова, направленные
на учителя. Дронов тоже изменился, как-то вдруг. Несмотря на свое уменье
следить за людями, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно,
прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил
Варавка: постепенности в движении их минутной стрелки не было, она перепрыгивала
с черты на черту. Так же и человек: еще вчера он был таким же, как полгода
тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта.
В темносинем пиджаке, в черных брюках и тупоносых ботинках
фигура Дронова приобрела комическую солидность. Но лицо его осунулось,
глаза стали неподвижней, зрачки помутнели, а в белках явились красненькие
жилки, точно у человека, который страдает бессонницей. Спрашивал он не
так жадно и много, как прежде, говорил меньше, слушал рассеянно и, прижав
локти к бокам, сцепив пальцы, крутил большие, как старик. Смотрел на все
как-то сбоку, часто и устало отдувался, и казалось, что говорит он не
о том, что думает.
Каждый раз после свидания с Ритой Климу хотелось уличить
Дронова во лжи, но сделать это значило бы открыть связь со швейкой, а
Клим понимал, что он не может гордиться своим первым романом. К тому же
случилось нечто, глубоко поразившее его: однажды вечером Дронов бесцеремонно
вошел в его комнату, устало сел и заговорил угрюмо:
- Слушай-ка, Варавка хочет перевести меня на службу в Рязань, а это, брат,
не годится мне. Кто там, в Рязани, будет готовить меня в университет?
Да еще - бесплатно, как Томилин?
Он взял со стола пресс-папье, стеклянный ромб, и, подставляя его под косой
луч солнца, следил за радужными пятнами на стене, на потолке, продолжая:
- Потом - Маргарита. Невыгодно мне уезжать от нее, я ею, как говорится,
и обшит и обмыт. Да и привязан к ней. И понимаю, что я для нее - не мармелад.
Он сморщился и навел радужное пятно на фотографию матери
Клима, на лицо ее; в этом Клим почувствовал нечто оскорбительное. Он сидел
у стола, но, услыхав имя Риты, быстро и неосторожно вскочил на ноги.
- Не шали, - сухо сказал он, жмурясь, как будто луч солнца попал в глаза
его; Дронов небрежно бросил пресс на стол, а Клим, стараясь говорить равнодушно,
спросил:
- Ты все еще живешь с нею?
- Почему же не жить?
Клим присел на край стола, разглядывая Дронова; в спокойном
тоне, которым он говорил о Рите, Клим слышал нечто подозрительное. Тогда,
очень дружески и притворяясь наивным, он стал подробно расспрашивать о
девице, а к Дронову возвратилась его хвастливость, и через минуту Клим
почувствовал желание крикнуть ему: "Ступай вон!"
- Она - хорошая, - говорил Дронов. Клим повернулся к нему спиною, а Дронов,
вдруг, нахмурясь, перескочил на другую тему:
- Томилина я скоро начну ненавидеть, мне уже теперь, иной раз, хочется
ударить его по уху. Мне нужно знать, а он учит не верить, убеждает, что
алгебра - произвольна, и чорт его не поймет, чего ему надо! Долбит, что
человек должен разорвать паутину понятий, сотканных разумом, выскочить
куда-то, в беспредельность свободы, Выходит как-то так: гуляй голым! Какой
дьявол вертит ручку этой кофейной мельницы?
- Клим сказал сквозь зубы:
- Очень умный человек.
- Умный? - явно усумнился Дронов, сердито взглянул на часы и встал:
- Так ты поговори с Варавкой.
Без него в комнате стало, лучше. Клим, стоя у окна, ощипывал
листья бегонии и морщился, подавленный гневом, унижением. Услыхав в прихожей
голос Варавки, он тотчас вышел к нему; стоя перед зеркалом, Варавка расчесывал
гребенкой лисью бороду и делал гримасы:
- В Рязань, в Рязань! - сердито ответил он на вопрос Клима. - Или - на
все четыре стороны. Не проси!
- Я и не предполагал просить за него, - сказал Клим с достоинством.
Варавка обнял его за талию и повел к себе в кабинет, говоря:
- Этот парень надоел мне. Работает скверно, рассеян, дерзок. И слишком
любит поболтать с моими поднадзорными.
- Да, - сказал Клим солидно, - его тянет к ним, он так часто бывает во
флигеле.
Усадив его в кресло у огромного рабочего стола, Варавка продолжал:
- Не понимаю, что тебя влечет к таким типам, как Дронов или Макаров. Изучаешь,
да?
Всегда насмешливый, часто - резкий, Варавка умел говорить
и вкрадчиво, с дружеской убедительностью. Клим уже не однажды чувствовал,
как легко этот человек заставляет его высказывать кое-что лишнее, и пытался
говорить с вотчимом уклончиво, осторожно. Но, как всегда, и в этот раз
Варавка незаметно привел его к необходимости сказать, что Лидия слишком
часто встречается с Макаровым и что отношения их очень похожи на роман.
Это сказалось само собою, очень просто: два серьезных человека, умственно
равные, заботливо беседовали о людях юных и неуравновешенных, беспокоясь
о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии
и Макарова.
Варавка закрыл на несколько секунд медвежьи глазки, сунул
руку под бороду и быстрым жестом распушил ее, как веер. Потом, мясисто
улыбаясь, сказал:
- Романтизм. Болезнь возраста. Тебя она минует, я уверен. Лидия - в Крыму,
осенью она уедет в театральную школу.
- Но ведь Макаров тоже будет в московском университете, - напомнил Клим.
Варавка не ответил, остригая ногти, кусочки их прыгали
на стол, загруженный бумагами. Потом, вынув записную книжку, он поставил
в ней какие-то знаки карандашом, попробовал засвистать что-то - не вышло.
- Ты бываешь во флигеле? - спросил он и тотчас же, хлопнув дружески по
колену Клима, заговорил: - Мой совет: не ходи туда! Конечно, там – люди
невинные, безвредные, и вся их словесность сводится к тому, чтоб переменить
кожу. Но - о них есть и другое мнение. Если в государстве существует политическая
полиция - должны быть и политические преступники. Хотя теперь политика
не в моде, так же как турнюры, но все-таки существует инерция и существуют
староверы. Революция в России возможна лишь как мужицкий бунт, то есть
как явление культурно бесплодное, разрушительное...
Затем он долго говорил о восстании декабристов, назвав
его "своеобразной трагической буффонадой", дело петрашевцев
- "заговором болтунов по ремеслу", но раньше чем он успел перейти
к народникам, величественно вошла мать, в сиреневом платье, в кружевах,
с длинной нитью жемчуга на груди.
- Пора! - строго сказала она. - А ты еще не переоделся.
- Извини! - виновато воскликнул Варавка, вскакивая и торопливо убегая.
- Мы так интересно беседовали.
Климу всегда было приятно видеть, что мать правит этим
человеком как существом ниже ее, как лошадью. Посмотрев вслед Варавке,
она вздохнула, затем, разгладив душистым пальцем брови сына, осведомилась:
- О чем говорили?
- Кажется, я поступил бестактно, - сознался Клим, думая о Дронове, но
рассказав о Лидии и Макарове.
- Как же иначе? - слегка удивилась мать. - Ты был обязан предупредить
ее отца.
- Готов, - сказал Варавка, являясь в двери; одетый в сюртук, он казался
особенно матерым.
Они ушли. Клим остался в настроении человека, который не
понимает: нужно или не нужно решать задачу, вдруг возникшую пред ним?
Открыл окно; в комнату хлынул жирный воздух вечера. Маленькое, сизое облако
окутывало серп луны. Клим решил:
"Пойду к ней".
Решил, но - задумался; внезапному желанию идти к Маргарите мешало чувство
какой-то неловкости, опасение, что он, не стерпев, спросит ее о Дронове
и вдруг окажется, что Дронов говорил правду. Этой правды не хотелось.
Из флигеля выходили, один за другим, темные люди с узлами,
чемоданами в руках, писатель вел под руку дядю Якова. Клим хотел выбежать
на двор, проститься, но остался у окна, вспомнив, что дядя давно уже не
замечает его среди людей. Писатель подсадил дядю в экипаж черного извозчика,
дядя крикнул:
- А где пакет?
- У меня, - громко ответил писатель. Экипаж тяжело покатился в сумрак
улицы. Дядя натягивал шляпу на голову, не оглядываясь назад, к воротам,
где жена писателя, сестра ее и еще двое каких-то людей, размахивая платками
и шляпами, радостно кричали:
- Прощайте!
Все это - и сумрак - напомнило Климу сцену из какого-то неинтересного
романа - проводы девушки, решившей служить гувернанткой, для того чтоб
поддержать обедневшую семью свою.
Клим вздохнул, послушал, как тишина поглощает грохот экипажа, хотел подумать
о дяде, заключить его в рамку каких-то очень значительных слов, но в голове
его ныл, точно комар, обидный вопрос:
"А если Дронов сказал правду?"
Вопрос этот, не пуская к Маргарите, не позволял думать
ни о чем, кроме нее. Посидев скучный час в темноте, он пошел к себе, зажег
лампу, взглянул в зеркало, оно показало ему лицо, почти незнакомое - обиженное,
измятое миной недоумения. Он тотчас погасил огонь, разделся в темноте
и лег в постель, закутав голову простыней. Но через несколько минут он
убедил себя, что необходимо сегодня же, сейчас уличить Маргариту во лжи.
Не зажигая огня, он оделся и пошел к ней, настроясь воинственно, шагая
твердо. Как всегда, Маргарита встретила его знакомым восклицанием:
- Ага, пришел!
Его уже давно удручали эти слова, он никогда не слышал
в них ни радости, ни удовольствия. И все стыднее были однообразные ласки
ее, заученные ею, должно быть, на всю жизнь. Порою необходимость в этих
ласках уже несколько тяготила Клима, даже колебала его уважение к себе.
Но на этот раз знакомые слова прозвучали по-новому бесцветно. Маргарита
только что пришла из бани, сидела у комода, перед зеркалом, расчесывая
влажные, потемневшие волосы. Красное лицо ее казалось гневным.
Размашисто, с усмешечкой на губах, но дрожащей от злости
рукой Клим похлопал ее по горячему, распаренному плечу, но она, отклонясь,
сказала сердито:
- Больно. Что ты?
И тотчас же заговорила деловитым тоном:
- Вот какая новость: я поступаю на хорошее место, в монастырь, в школу,
буду там девочек шитью учить. И квартиру мне там дадут, при школе. Значит
- прощай! Мужчинам туда нельзя ходить.
Спустив рубашку до колен, вытирая полотенцем шею, грудь,
она не попросила, а приказала:
- Вытри-ка спину мне.
Увидав ее голой, юноша почувствовал, что запас его воинственности исчез.
Но приказание девушки вытереть ей спину изумило и возмутило его. Никогда
она не обращалась к нему с просьбами о таких услугах, и он не помнил случая,
когда бы вежливость заставила его оказать Рите услугу, подобную требуемой
ею. Он сидел и молчал. Девушка спросила:
- Лень?
Тогда, подчиняясь вспыхнувшей злобе, он сказал негромко
и презрительно:
- Ты лгала мне, Дронов твой любовник... Он сейчас же понял, что сказал
это не так, как следовало, не теми словами. Маргарита, надевая новые ботинки,
сидела согнувшись, спиною к нему. Она ответила не сразу и спокойно:
- Вот как просто сошлось. И спросила:
- Это Фенька сказала тебе?
Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь.
Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал:
что еще скажет она? Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок,
ничего не говорила.
- Мне Дронов сам сказал, - грубо объявил Клим. Она встала и, невысоко
приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги. И снова села на стул,
облегченно вздохнув, повторила:
- Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю: как сказать, что не
могу больше с тобой? Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть,
почти растерянно он спросил:
- Зачем ты лгала?
Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что
говорит:
- Мне твоя мамаша деньги платила не затем, чтобы правду тебе говорить,
а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы.
Испытав впечатление ожога, Клим закричал:
- Врешь! Мать не могла...
- Жмет, - тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола, и, обругав
кого-то "подлецом", продолжала поучительно и равнодушно:
- На мамашу - не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю
всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся.
Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове, у него дрожали ноги,
и, если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается
над ним.
"Значит, мать наняла ее, - соображал он. - Платила
ей, потому эта дрянь и была бескорыстна".
- Хотя она и гордая и обидела меня, а все-таки скажу: мать она редкая.
Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, - ты уж
ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду.
Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее
работы Самгины и Варавки станут несчастнейшими людями.
Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще
красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой
и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув
на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным
восклицанием:
- Фу, как нехорошо, а был вежливый...
Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду,
размышляя: что делать? Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что
Маргариту нанимают как проститутку, хотелось сказать матери что-то очень
сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой
думы о Маргарите. Он привык относиться к вей снисходительно, иронически
и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен.
Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее несомненно честные
ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова, те глупые, нежные
слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от
своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова
шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях
его тела, потом спрашивал себя: как могла она лгать так незаметно и ловко?
А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть,
на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него
мелькнула странная, чужая мысль:
"Проститутка или сестра милосердия?"
Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно,
любила только четвертого - некрасивого, неприятного Дронова.
Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости,
обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел
силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной, пустынной реке, вода
ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла
она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны, на
воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своею Клим слышал
шаги людей, смех и говор, хитренький тенорок пропел на мотив "La
donna e mobile"[2]:
Слышу я голос твой,
Нежный и ласковый,
Значит - для голоса
Деньги вытаскивай...
Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг
чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой.
Мать и Варавка уехали на дачу под городом, Алина тоже жила на даче, Лидия
и Люба Сомова - в Крыму. Клим остался дома, чтоб наблюдать за ремонтом
его и заниматься со Ржигой латынью. Наедине с самим собою не было необходимости
играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного
ему. Все думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя
и становились менее обидными, но всё более непонятны. Они освещали девушку
как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем, память воскрешала
ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены
озлоблением против женщин. Так, однажды, соскочив с постели и вытирая
губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно:
- Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих
любит распалить да и сжечь до золы. Многие через нас погибают.
В другой раз она ласково убеждала:
- Ты в бабью любовь - не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит.
Бабы - хитрые, ух! Злые. Они даже и друг друга не любят, погляди-ко на
улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую, это - от жадности
все: каждая злится, что, кроме ее, еще другие на земле живут.
Она даже начала было рассказывать ему какой-то роман, но Клим задремал,
из всего романа у него осталось в памяти лишь несколько слов:
- А чего надо было ей? Только отбить его у меня. Дескать - видала, как
я тебя ловчее?
Теперь, когда ее поучения всплывали пред ним, он удивлялся
их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может
быть, по требованию ее совести, для того, чтоб намеками предупредить его
о своем обмане.
"Я - хочу оправдать ее?" - спрашивал он себя. Но тотчас же пред
ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные
слова его рассказов о Маргарите.
"Если б упасть с нею в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова
Бориса", - озлобленно подумал он.
Но, и со злостью думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное
желание пойти к ней, а это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей,
направив ее на рабочих.
Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали
старое, казарменного вида двухэтажное здание, с маленькими, угрюмыми окнами,
когда-то окрашенное желтой краской; Варавка приобрел этот дом для купеческого
клуба. Работало человек двадцать пыльных людей, но из них особенно выделялись
двое: кудрявый, толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице,
сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике.
Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич
старой стены; сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок
подзадоривал его, взвизгивая:
- Вали-и, Мотя! Круши, Мотя, - скоро шабаш! Десятник, рыжебородый, крупный
мужик, уговаривал:
- А ты не балуй, Николаич! На что дробить кирпич? Старичок отвечал шуточками:
- Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук те в ухо, - сила ты!
И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей
их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый
кирпич годен в дело, он крупней, плотней нового, - старичок согласно взвизгивал:
- Верно-о! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя-а!
Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось
Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя
работал слепо, машиноподобно, и, когда ему удавалось отколоть несколько
кирпичей сразу, он оглушительно ухал, рабочие смеялись, свистели, а старичок
яростно и жутко визжал:
- Валяй-и!
"Идиоты!" - думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки
пред развалинами ее дома, вспоминались уличные сцены, драки мастеровых,
буйства пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади
против гимназии и снова слезы бабушки, сердито-насмешливые словечки Варавки
о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с
Маргаритой все люди стали хуже: и богомольный, благообразный старик дворник
Степан, и молчаливая, толстая Феня, неутомимо пожиравшая все сладкое.
"Народ", - думал он, внутренне усмехаясь, слушая, как память
подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать
для просвещения его.
Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной
надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головой:
- Искренний интерес к народу могут испытывать промышленники, честолюбцы
и социалисты. Народ - тема, не интересующая меня.
Томилин, видимо, богател, он не только чище одевался, но стены комнаты
его быстро обрастали новыми книгами на трех языках: немецком, французском
и английском.
- По-русски читать нечего, - объяснял он. - По-русски интересно чувствуют,
но думают неудачно, зависимо, не оригинально. Русское мышление глубоко
чувственно и потому грубо. Мысль только тогда плодотворна, когда ее двигает
сомнение. Русскому разуму чужд скептицизм, так же как разуму индуса и
китайца. У нас все стремятся веровать. Все равно во что, хотя бы в спасительность
неверия. Во Христа. В химию. В народ. А стремление к вере - есть стремление
к покою. У нас нет людей, осудивших себя на тревогу независимой работы
мышления.
Не все эти изречения нравились Климу, многие из них были
органически неприемлемы для него. Но он честно старался помнить все, что
говорил Томилин в такт шарканью своих войлочных туфель, а иногда босых
подошв.
- Нет людей, которым истина была бы нужна ради ее самой, ради наслаждения
ею. Я повторяю: человек хочет истины, потому что жаждет покоя. Эту нужду
вполне удовлетворяют так называемые научные истины, практического значения
коих я не отрицаю.
Однажды, придя к учителю, он был остановлен вдовой домохозяина, - повар
умер от воспаления легких. Сидя на крыльце, женщина веткой акации отгоняла
мух от круглого, масляно блестевшего лица своего. Ей было уже лет под
сорок; грузная, с бюстом кормилицы, она встала пред Климом, прикрыв дверь
широкой спиной своей, и, улыбаясь глазами овцы, сказала:
- Извините - он пишет и никого не велел пускать. Даже отцу Иннокентию
отказала. К нему ведь теперь священники ходят; семинарский и от Успенья.
Говорила она вполголоса, захлебываясь словами, ее овечьи
глаза сияли радостью, и Клим видел, что она готова рассказывать о Томилине
долго. Из вежливости он послушал ее минуты три и раскланялся с нею, когда
она сказала, вздохнув:
- Вначале я его жалела, а теперь уж боюсь. Часто и всегда как-то не во-время
являлся Макаров, пыльный, в парусиновой блузе, подпоясанной широким ремнем,
в опорках на голых ногах. Двуцветные волосы его отросли, висели космами,
это делало его похожим на монастырского послушника. Лицо обветрело и загорело,
на ушах, на носу шелушилась кожа, точно чешуя рыбы, а в глазах сгустилась
печаль. Но порою глаза его разгорались незнакомо Климу и внушали ему смутное
опасение.
Он вел себя с Макаровым осторожно, скрывая свое возмущение
бродяжьей неряшливостью его костюма и снисходительную иронию к его надоевшим
речам. Макаров ходил пешком по деревням, монастырям, рассказывал об этом,
как о путешествии по чужой стране, но о чем бы он ни рассказывал, Клим
слышал, что он думает и говорит о женщинах, о любви.
- Ты - что же, изучаешь народ?
- Себя, конечно. Себя, по завету древних мудрецов, - отвечал Макаров.
- Что значит - изучать народ? Песни записывать? Девки поют постыднейшую
ерунду. Старики вспоминают какие-то панихиды. Нет, брат, и без песен не
весело, - заключал он и, разглаживая пальцами измятую папиросу, которая
казалась набитой пылью, продолжал:
- Мне иногда кажется, что толстовцы, пожалуй, правы: самое
умное, что можно сделать, это, как сказал Варавка, - возвратиться в дураки.
Может быть, настоящая-то мудрость по-собачьи проста и напрасно мы заносимся
куда-то?
Клим знал, что на эти вопросы он мог бы ответить только словами Томилина,
знакомыми Макарову. Он молчал, думая, что, если б Макаров решился на связь
с какой-либо девицей, подобной Рите, все его тревоги исчезли бы. А еще
лучше, если б этот лохматый красавец отнял швейку у Дронова и перестал
бы вертеться вокруг Лидии. Макаров никогда не спрашивал о ней, но Клим
видел, что, рассказывая, он иногда, склонив голову на плечо, смотрит в
угол потолка, прислушиваясь.
"Думает - приехала", - догадывался Клим
насмешливо, но и с досадой.
А Макаров задумчиво бормотал:
- Иногда кажется, что понимать - глупо. Я несколько раз ночевал в поле;
лежишь на спине, не спится, смотришь на звезды, вспоминая книжки, и вдруг
- ударит, - эдак, знаешь, притиснет: а что, если величие и необъятность
вселенной только - глупость и чье-то неумение устроить мир понятнее, проще?
- Кажется, это из Томилина, - напомнил Клим. Макаров подумал, подымил
папиросой.
- Все равно - откуда. Но выходит так, что человек не доступен своему же
разуму.
Макаровское недовольство миром раздражало Клима, казалось
ему неумной игрой в философа, грубым подражанием Томилину. Он сказал сердито
и не глядя на товарища:
- Года через два-три мы перестанем думать об этих...
Он хотел сказать - глупостях или пустяках, но удержался и сказал:
- Так наивно...
Погасив папиросу о подошву своих сандалий, Макаров спросил:
- В дураки пойдем?
Затем, попросив у Клима три рубля, исчез. Посмотрев в окно,
как легко и споро он идет по двору, Клим захотел показать ему кулак.
В субботу он поехал на дачу и, подъезжая к ней, еще издали увидел на террасе
мать, сидевшую в кресле, а у колонки террасы Лидию в белом платье, в малиновом
шарфе на плечах. Он невольно вздрогнул, подтянулся и, хотя лошадь бежала
не торопясь, сказал извозчику:
- Тише.
Он даже несколько оробел, когда Лидия, без улыбки пожав его руку, взглянула
в лицо его быстрым, неласковым взглядом. За два месяца она сильно изменилась,
смуглое лицо ее потемнело еще больше, высокий, немного резкий голос звучал
сочней.
- Море вовсе не такое, как я думала, - говорила она матери. - Это просто
большая, жидкая скука. Горы - каменная скука, ограниченная небом. Ночами
воображаешь, что горы ползут на дома и хотят столкнуть их в воду, а море
уже готово схватить дома...
Вера Петровна, посмотрев на дорогу в сторону леса, напомнила:
- Ночами не думают, а спят.
- Там плохо спится, мешает прибой. Камни скрипят, точно зубы. Море чавкает,
как миллион свиней...
- Ты все такая же... нервная, - сказала Вера Петровна; по паузе Клим догадался,
что она хотела сказать что-то другое. Он видел, что Лидия стала совсем
взрослой девушкой, взгляд ее был неподвижен, можно было подумать, что
она чего-то напряженно ожидает. Говорила она несвойственно ей торопливо,
как бы желая скорее выговорить все, что нужно.
- Не понимаю, почему все согласились говорить, что Крым красив.
Упрямство ее, видимо, раздражало мать. Клим заметил, что
она поджала губы, а кончик носа ее, покраснев, дрожит.
- Большинство людей только ищет красоту, лишь немногие создают ее, - заговорил
он. - Возможно, что в природе совершенно отсутствует красота, так
же как в жизни - истина; истину и красоту создает сам человек - Не дослушав
его, Лидия сказала:
- Ты - постарел. То есть - возмужал. Вера Петровна встала и пошла в комнаты,
сказав по пути излишне громко:
- Ты очень оригинально сказал о красоте, Клим. Оставшись глаз на глаз
с Лидией, он удивленно почувствовал, что не знает, о чем говорить с нею.
Девушка прошлась по террасе, потом спросила, глядя в лес:
- Отец ушел на охоту?
- Да.
- Один?
- С мужиком. С одним из семи, которых весною губернатор приказал выпороть.
- Да? - спросила Лидия. - Там тоже где-то бунтовали мужики. В них даже
стреляли... Ну, я пойду, устала.
Спускаясь с террасы в маленькую рощу тонкостволых берез,
она сказала, не глядя на Клима:
- А Люба взяла место компаньонки у больной туберкулезом девицы.
Ушла в чащу берез, оставив Клима возмущенным ее равнодушием к нему. Он
сел в кресло, где сидела мать, взял желтенькую французскую книжку, роман
Мопассана "Сильна, как смерть", хлопнул его по колену и погрузился
в поток беспорядочных дум. Конечно, эта девушка не для такой любви, какова
любовь Риты. Невозможно представить хрупкое, тонкое тело ее нагим и в
бурных судорогах. Затем, вспомнив покрасневший нос матери, он вспомнил
ее фразы, которыми она в прошлый его приезд на дачу обменялась с Варавкой,
здесь, на террасе.
Клим сидел у себя в комнате и слышал, как мать сказала как будто с радостью:
- Бог мой, у тебя начинается лысина. Варавка ответил:
- А я вот не замечаю седых волос на висках твоих. Мои глаза - вежливее.
- Ты рассердился? - удивленно спросила мать.
- Нет, конечно. Но есть слова, которые не очень радостно слышать от женщины.
Тем более от женщины, очень осведомленной в обычаях французской галантности.
- Почему ты не сказал - любимой?
- И любимой, - прибавил Варавка.
Клим вспомнил слова Маргариты о матери и, швырнув книгу
на пол, взглянул в рощу. Белая, тонкая фигура Лидии исчезла среди берез.
"Интересно: как она встретится с Макаровым? И - поймет ли, что я
уже изведал тайну отношений мужчины и женщины? А если догадается - повысит
ли это меня в ее глазах? Дронов говорил, что девушки и женщины безошибочно
по каким-то признакам отличают юношу, потерявшего невинность. Мать сказала
о Макарове: по глазам видно - это юноша развратный. Мать все чаще начинает
свои сухие фразы именем бога, хотя богомольна только из приличия".
Покачиваясь в кресле, Клим чувствовал себя взболтанным
и неспособным придумать ничего, что объяснило бы ему тревогу, вызванную
приездом Лидии. Затем он вдруг понял, что боится, как бы Лидия не узнала
о его романе с Маргаритой от горничной Фени.
"Если б мать не подкупила эту девку, Маргарита оттолкнула бы меня,
- подумал он, сжав пальцы так, что они хрустнули. - Редкая мать..."
Лидия вернулась с прогулки незаметно, а когда сели ужинать,
оказалось, что она уже спит. И на другой день с утра до вечера она все
как-то беспокойно мелькала, отвечая на вопросы Веры Петровны не очень
вежливо и так, как будто она хотела поспорить.
- Ты читала это? - осведомилась Вера Петровна, показывая ей книгу Мопассана.
- Да. Это скучно.
- Разве? Я не нахожу.
- Странная привычка - читать, - заговорила Лидия. - Все равно как жить
на чужой счет. И все друг друга спрашивают: читал, читала, читали?
- Бог знает, что ты говоришь, - заметила Вера Петровна несколько обиженно,
а Лидия, усмехаясь, говорила:
- Такая воробьиная беседа. И ведь это же неверно, что любовь "сильна,
как смерть". Тут уж засмеялась Вера Петровна:
- Вот как? Ты - знаешь?
- Я вижу. Любят по пяти раз и - живут.
Клим озабоченно молчал, ожидая, что они поссорятся, и чувствуя, что он
робеет пред Лидией.
Поздно вечером он поехал в город. Старенький, разбитый
вагон дачного поезда качался и подпрыгивал, точно крестьянская телега.
За окном медленно плыл черный поток леса, в небе полыхали зарницы. Клима
тревожило предчувствие каких-то неприятностей. В его размышления о себе
вторглась странная девушка и властно заставляла думать о ней, а это было
трудно. Она не поддавалась его стремлению понять смысл игры ее чувств
и мыслей. А необходимо, чтоб она и все люди были понятны, как цифры. Нужно
дойти до каких-то твердых границ и поставить себя в них, разоблачив и
отбросив по пути все выдумки, мешающие жить легко и просто, - вот что
нужно.
Через день Лидия приехала с отцом. Клим ходил с ними по
мусору и стружкам вокруг дома, облепленного лесами, на которых работали
штукатуры. Гремело железо крыши под ударами кровельщиков; Варавка, сердито
встряхивая бородою, ругался и втискивал в память Клима свои всегда необычные
словечки.
- Работают, точно гробовщики, наскоро, кое-как. Ласкаясь к отцу, что было
необычно для нее, идя с ним под руку, Лидия говорила:
- Ты, папа, готов целый город выстроить.
- Готов! - согласился Варавка. - Десяток городов выстроил бы. Город -
это, милая, улей, в городе скопляется мед культуры. Нам необходимо всосать
в города половину деревенской России, тогда мы и начнем жить.
Поболтав с дочерью, с Климом, он изругал рабочих, потом
щедро дал им на чай и уехал куда-то, а Лидия ушла к себе наверх, притаилась
там, а за вечерним чаем стала дразнить Таню Куликову вопросами:
- Почему это интересно?
Таня Куликова седела, сохла, линяла, как бы стремясь стать совершенно
невидимой.
- Как вы, молодежь, мало читаете, как мало знаете! - сокрушалась она.
- Наше поколение...
- Поколение - от глагола поколевать? - спросила Лидия.
Та грубоватость, которую Клим знал в ней с детства, теперь принимала формы,
смущавшие его своей резкостью. Говорить с Лидией было почти невозможно,
она и ему ставила тот же вопрос:
- А почему это должно быть интересно мне? А зачем это нужно знать?
За чаем, за обедом она вдруг задумывалась и минутами сидела,
точно глухонемая, а потом, вздрогнув, неестественно оживлялась и снова
дразнила Таню, утверждая, что, когда Катин пишет рассказы из крестьянского
быта, он обувается в лапти.
- Это необходимо для вдохновения.
Зорко наблюдая за ней, видя ее нахмуренные брови, сосредоточенно ищущий
взгляд темных глаз, слушая слишком бурное исполнение лирической музыки
Шопена и Чайковского, Клим догадывался, что она зацепилась за что-то очень
раздражающее ее, именно зацепилась, как за куст шиповника.
"Влюблена? - вопросительно соображал он и не хотел верить в это.
- Нет, влюбленной она вела бы себя, наверное, не так".
В августе, хмурым вечером, возвратясь с дачи, Клим застал
у себя Макарова; он сидел среди комнаты на стуле, согнувшись, опираясь
локтями о колени, запустив пальцы в растрепанные волосы; у ног его лежала
измятая, выгоревшая на солнце фуражка. Клим отворил дверь тихо, Макаров
не пошевелился.
"Пьян", - подумал Клим и укоризненно сказал: - Хорош!
Макаров, не вынимая пальцев из волос, тяжело поднял голову; лицо его было
истаявшее, скулы как будто распухли, белки красные, но взгляд блестел
трезво.
- С похмелья? - спросил Клим.
Макаров поднял фуражку, положил ее на колено и прижал локтем и снова опустил
голову, додумывая что-то.
Клим спросил, давно ли он возвратился из Москвы, поступил ли в университет,
- Макаров пощупал карман брюк своих и ответил негромко:
- Третьего дня. Поступил.
- На медицинский?
- Отстань.
Посидев еще минуту, он встал и пошел к двери не своей походкой, лениво
шаркая ногами.
- К ней? - спросил Самгин, указав глазами в потолок. Макаров тоже посмотрел
вверх и, схватясь за косяк двери, ответил:
- Нет. Прощай.
Видя, как медленно и неверно он шагает, Клим подумал со
смешанным чувством страха, жалости и злорадства:
"Заразился?" В комнату вбежала Феня, пугливо говоря:
- Барышня просит посмотреть за ним, не пускать его никуда.
Нелепо вытаращив глаза, она пропела:
- Что было-о!
Клим пошел наверх, навстречу по лестнице бежала Лидия, говоря оглушающим
шепотом:
- Зачем ты отпустил его? Зачем?
При свете стенной лампы, скудно освещавшей голову девушки, Клим видел,
что подбородок ее дрожит, руки судорожно кутают грудь платком и, наклоняясь
вперед, она готова упасть.
- Догони, приведи! - уже кричала она, топая. Испуганный и как во сне,
Клим побежал, выскочил за ворота, прислушался; было уже темно и очень
тихо, но звука шагов не слыхать. Клим побежал в сторону той улицы, где
жил Макаров, и скоро в сумраке, под липами у церковной ограды, увидал
Макарова, - он стоял, держась одной рукой за деревянную балясину ограды,
а другая рука его была поднята в уровень головы, и, хотя Клим не видел
в ней револьвера, но, поняв, что Макаров сейчас выстрелит, крикнул:
- Не смей!
Он был уже в двух шагах от Макарова, когда тот произнес пьяным голосом:
- Аллилуйя! И - всё к черту!
Клим успел толкнуть его и отшатнулся, испуганный сухим щелчком выстрела,
а Макаров, опустив руку с револьвером, тихонько охнул.
Впоследствии, рисуя себе эту сцену, Клим вспоминал, как Макаров покачивался,
точно решая, в какую сторону упасть, как, медленно открывая рот, он испуганно
смотрел странно круглыми глазами и бормотал:
- Вот... вот и...
Клим обнял его за талию, удержал на ногах и повел. Это было странно: Макаров
мешал идти, толкался, но шагал быстро, он почти бежал, а шли до ворот
дома мучительно долго. Он скрипел зубами, шептал, присвистывая:
- Оставь, оставь меня.
А на дворе, у крыльца, на котором стояли три женские фигуры, невнятно
пробормотал:
- Я знаю - глупо...
Укоризненно покачивая гладкой головой, Таня Куликова слезливо
заныла:
- Не стыдно ли...
- Молчи! - приказала Лидия. - Фекла, - за доктором!
И, подхватив Макарова под руку, спросила вполголоса:
- Куда ты выстрелил... гимназист?..
Клим слышал, что спросила она озлобленно, даже с презрением.
У себя в комнате, при огне, Клим увидал, что левый бок блузы Макарова
потемнел, влажно лоснится, а со стула на пол капают черные капли. Лидия
молча стояла пред ним, поддерживая его падавшую на грудь голову, Таня,
быстро оправляя постель Клима, всхлипывала:
- Раздень, - приказала Лидия. Клим подошел, у него кружилась голова от
сладкого, жирного запаха.
- Нет, прежде положим на постель, - командовала Лидия. Клим отрицательно
мотнул головою, в полуобмороке вышел в гостиную и там упал в кресло.
Когда он, очнувшись, возвратился в свою комнату, Макаров,
голый по пояс, лежал на его постели, над ним наклонился незнакомый, седой
доктор и, засучив рукава, ковырял грудь его длинной, блестящей иглой,
говорят
- Что же это вы, молодежь, всё шалите, стреляете? На висках, на выпуклом
лбу Макарова блестел пот, нос заострился, точно у мертвого, он закусил
губы и крепко закрыл глаза. В ногах кровати стояли Феня с медным тазом
в руках и Куликова с бинтами, с марлей.
- Пушкины, Лермонтовы стрелялись иначе, - бормотал доктор.
Клим вышел в столовую, там, у стола, глядя на огонь свечи, сидела Лидия,
скрестив руки на груди, вытянув ноги.
- Опасно? - спросила она сквозь зубы и не взглянув на Клима.
- Не знаю.
- Доктор, кажется, груб?
Клим не ответил, наливая воду в стакан, а выпив воды, сказал:
- Вот. Из-за тебя уже стреляются. Лидия тихо, но строго попросила:
- Перестань.
Замолчали, прислушиваясь. Клим стоял у буфета, крепко вытирая руки платком.
Лидия сидела неподвижно, упорно глядя на золотое копьецо свечи. Мелкие
мысли одолевали Клима. "Доктор говорил с Лидией почтительно, как
с дамой. Это, конечно, потому, что Варавка играет в городе все более видную
роль. Снова в городе начнут говорить о ней, как говорили о детском ее
романе с Туробоевым. Неприятно, что Макарова уложили на мою постель. Лучше
бы отвести его на чердак. И ему спокойней".
Мысли были неуместные. Клим знал это, но ни о чем другом
не думалось.
Пришел доктор и, потирая руки, сообщил:
- Н-ну-с, все благополучно, как только может быть. Револьвер был плохонький;
пуля ударилась о ребро, кажется, помяла его, прошла сквозь левое легкое
и остановилась под кожей на спине. Я ее вырезал и подарил храбрецу.
Говоря, он пристально, с улыбочкой, смотрел на Лидию, но она не замечала
этого, сбивая наплывы на свече ручкой чайной ложки. Доктор дал несколько
советов, поклонился ей, но она и этого не заметила, а когда он ушел, сказала,
глядя в угол:
- Ночью дежурить будем я и Таня. Ты иди, спи, Клим.
Клим был рад уйти; он не понимал, как держать себя, что надо говорить,
и чувствовал, что скорбное выражение лица его превращается в гримасу нервной
усталости.
Пролежав в комнате Клима четверо суток, на пятые Макаров
начал просить, чтоб его отвезли домой. Эти дни, полные тяжелых и тревожных
впечатлений, Клим прожил очень трудно. В первый же день утром, зайдя к
больному, он застал там Лидию, - глаза у нее были красные, нехорошо блестели,
разглядывая серое, измученное лицо Макарова с провалившимися глазами;
губы его, потемнев, сухо шептали что-то, иногда он вскрикивал и скрипел
зубами, оскаливая их.
- Бредит, - шопотом сказала она, махнув рукой на Клима. - Уйди!
Но Клим на минуту задержался в двери и услыхал задыхающийся, хриплый голос:
- Я - не виноват... Я - не могу.
Лидия снова, тоном приказания, повторила:
- Уйди!
К вечеру Макарову стало лучше, а на третий день он, слабо улыбаясь, говорил
Климу:
- Извини, брат! Напачкал я тебе тут...
Он был сконфужен, смотрел на Клима из темных ям под глазами
неприятно пристально, точно вспоминая что-то и чему-то не веря. Лидия
вела себя явно фальшиво и, кажется, сама понимала это. Она говорила пустяки,
неуместно смеялась, удивляла необычной для нее развязностью и вдруг, раздражаясь,
начинала высмеивать Клима:
- У тебя вкусы старика; только старики и старухи развешивают так много
фотографий.
Макаров молчал, смотрел в потолок и казался новым, чужим. И рубашка на
нем была чужая, Климова.
Когда, приехав с дачи, Вера Петровна и Варавка выслушали
подробный рассказ Клима, они тотчас же начали вполголоса спорить. Варавка
стоял у окна боком к матери, держал бороду в кулаке и морщился, точно
у него болели зубы, мать, сидя пред трюмо, расчесывала свои пышные волосы,
встряхивая головою.
- Лидия слишком кокетлива, - говорила она.
- Ну, это ты выдумала! Ни тени кокетства.
- Приемы кокетства - различны.
- Знаю, но...
- Макаров распущенный юноша, Клим это знает.
- Ты несправедлива к Лиде...
Клим слушал, не говоря ни слова. Мать говорила все более
высокомерно, Варавка рассердился, зачавкал, замычал и ушел. Тогда мать
сказала Климу:
- Лидия - хитрая. В ней я чувствую что-то хищное. Из таких, холодных,
развиваются авантюристки. Будь осторожен с нею.
Клим давно знал, что мать не любит Лидию, но так решительно она впервые
говорила о ней.
- Я, разумеется, понимаю твои товарищеские чувства, но было бы разумнее
отправить этого в больницу. Скандал, при нашем положении в обществе...
ты понимаешь, конечно... О, боже мой!
Наверху топал, как слон, Варавка, и был слышен его глухой крик:
- Запрещаю. Ер-рунда!
Затем по внутренней лестнице сбежала Лидия, из окна Клим видел, что она
промчалась в сад.
Терпеливо выслушав еще несколько замечаний матери, он тоже
пошел в сад, уверенный, что найдет там Лидию оскорбленной, в слезах и
ему нужно будет утешать ее.
Но она сидела на скамье, у беседки, заложив ногу на ногу, и встретила
Клима вопросом:
- Ты не станешь стреляться из-за любви, - нет?
Спросила она так спокойно и грубовато, что Клим подумал:
"Неужели мать права?"
- Как придется, - ответил он, пожав плечами.
- Нет, не станешь! - уверенно повторила она и, как в детстве, предложила:
- Посидим.
Затем, взглянув на него сбоку, она задумчиво произнесла:
- Ты, вероятно, будешь распутный. Я думаю - уже? Да?
Озадаченный Клим не успел ответить, - лицо Лидии вздрогнуло,
исказилось, она встряхнула головою и, схватив ее руками, зашептала с отчаянием:
- Как это ужасно! И - зачем? Ну вот родилась я, родился ты - зачем? Что
ты думаешь об этом?
Клим приосанился, собираясь говорить много и умно, но она вскочила и пошла
прочь, сказав:
- Не надо. Молчи.
Когда она скрылась, Клима потянуло за нею, уже не с тем, чтоб говорить
умное, а просто, чтоб идти с нею рядом. Это был настолько сильный порыв,
что Клим вскочил, пошел, но на дворе раздался негромкий, но сочный возглас
Алины:
- Неужели? Ага, я говорила...
Клим постоял, затем снова сел, думая: да, вероятно, Лидия,
а может быть, и Макаров знают другую любовь, эта любовь вызывает у матери,
у Варавки, видимо, очень ревнивые и завистливые чувства. Ни тот, ни другая
даже не посетили больного. Варавка вызвал карету "Красного Креста",
и, когда санитары, похожие на поваров, несли Макарова по двору, Варавка
стоял у окна, держа себя за бороду. Он не позволил Лидии проводить больного,
а мать, кажется, нарочно ушла из дома.
- На дворе Макаров сразу посветлел, оживился и, глядя в прозрачное, холодноватое
небо, тихо сказал:
- Бесподобно.
Лежа в карете, морщась от сильных толчков, он погладил правою рукою колено
Клима.
- Ну, брат, спасибо тебе. А кровопускание это, пожалуй, полезно, успокаивает.
И слабо усмехнулся, добавив:
- Только ты - не пробуй: больно да и стыдно немножко.
Он закрыл глаза, и, утонув в темных ямах, они сделали лицо
его более жутко слепым, чем оно бывает у слепых от рождения. На заросшем
травою маленьком дворике игрушечного дома, кокетливо спрятавшего свои
три окна за палисадником, Макарова встретил уродливо высокий, тощий человек
с лицом клоуна, с метлой в руках. Он бросил метлу, подбежал к носилкам,
переломился над ними и смешным голосом заговорил, толкая санитаров, Клима:
- Эх, Костя, ай-яй-ай! Когда нам Лидия Тимофеевна сказала, мы так и обмерли.
Потом она обрадовала нас, не опасно, говорит. Ну, слава богу! Сейчас же
все вымыли, вычистили. Мамаша! - закричал он и, схватив длинными пальцами
локоть Клима, представился:
- Злобин, Петр, почтово-телеграфный, очень рад.
Из двери сарайчика вылезла мощная, краснощекая старуха в сером платье,
похожем на рясу, с трудом нагнулась, поцеловала лоб Макарова и прослезилась,
ворчливо говоря:
- Ну и дурачок!
Клим почувствовал себя умиленным. Забавно было видеть,
что такой длинный человек и такая огромная старуха живут в игрушечном
домике, в чистеньких комнатах, где много цветов, а у стены на маленьком,
овальном столике торжественно лежит скрипка в футляре. Макарова уложили
на постель в уютной, солнечной комнате. Злобин неуклюже сел на стул и
говорил:
- А я, знаешь, по этому случаю, даже разрешил себе пьеску разучить "Сувенир
де Вильна" - очень милая! Три вечера зудел.
Курносый, голубоглазый, подстриженный ежиком и уже полуседой, он казался
Климу все более похожим на клоуна. А грузная его мамаша, покачиваясь,
коровой ходила из комнаты в комнату, снося на стол перед постелью Макарова
графины, стаканы, - ходила и ворчала:
- Ну и - что хорошего? Издеваетесь над собою, молодые люди, а потом скучать
будете.
Она предложила Климу чаю, Клим вежливо отказался, пожал руку Макарову,
который, молча улыбаясь, смотрел на Злобиных.
- Приходи, пожалуйста, - попросил Макаров, Злобины в один голос повторили:
- Пожалуйста.
Клим вышел на улицу, и ему стало грустно. Забавные друзья
Макарова, должно быть, крепко любят его, и жить с ними - уютно, просто.
Простота их заставила его вспомнить о Маргарите - вот у кого он хорошо
отдохнул бы от нелепых тревог этих дней. И, задумавшись о ней, он вдруг
почувствовал, что эта девушка незаметно выросла в глазах его, но выросла
где-то в стороне от Лидии и не затемняя ее.
Когда в линию его размышлений вторгалась Лидия, он уже не мог думать ни
о чем, кроме нее. В сущности, он и не думал, а стоял пред нею и рассматривал
девушку безмысленно, так же как иногда смотрел на движение облаков, течение
реки. Облака и волны, стирая, смывая всякие мысли, вызывали у него такое
же бездумное, дремотное настроение полугипноза, как эта девушка. Но, когда
он видел ее пред собою не в памяти, а во плоти, в нем возникал почти враждебный
интерес к ней; хотелось следить за каждым ее шагом, знать, что она думает,
о чем говорит с Алиной, с отцом, хотелось уличить ее в чем-то.
Через несколько дней Лидия мимоходом, но задорно, как показалось
Климу, спросила его:
- Почему ты не зайдешь к Макарову? Он сказал, что очень расстроен отношением
к нему педагогического совета, часть членов его, не решаясь выдать ему
аттестат зрелости, требует переэкзаменовки.
- Ну, Ржига устроит это, - небрежно сказала Лидия, а затем, прищурив глаза,
тихонько посмеялась и прибавила:
- Не заставляй думать, будто ты сожалеешь о том, что помешал товарищу
убить себя.
Она ушла, прежде чем он успел ответить ей. Конечно, она шутила, это Клим
видел по лицу ее. Но и в форме шутки ее слова взволновали его. Откуда,
из каких наблюдений могла родиться у нее такая оскорбительная мысль? Клим
долго, напряженно искал в себе: являлось ли у него сожаление, о котором
догадывается Лидия? Не нашел и решил объясниться с нею. Но в течение двух
дней он не выбрал времени для объяснения, а на третий пошел к Макарову,
отягченный намерением, не совсем ясным ему.
На пороге одной из комнаток игрушечного дома он остановился
с невольной улыбкой: у стены на диване лежал Макаров, прикрытый до груди
одеялом, расстегнутый ворот рубахи обнажал его забинтованное плечо; за
маленьким, круглым столиком сидела Лидия; на столе стояло блюдо, полное
яблок; косой луч солнца, проникая сквозь верхние стекла окон, освещал
алые плоды, затылок Лидии и половину горбоносого лица Макарова. В комнате
было душисто и очень жарко, как показалось Климу. Больной и девушка ели
яблоки.
- Райское занятие, - пробормотал Клим.
- Третьим в раю был дьявол, - тотчас сказала Лидия и немножко отодвинулась
от дивана вместе со стулом, а Макаров, пожимая руку Клима, подхватил ее
шутку:
- Самгин больше похож на Фауста, чем на Мефистофеля.
Обе шутки не понравились Климу, заставив его насторожиться,
а Макаров и Лидия, легко перебрасываясь шуточками, все чаще задевали его.
Он отшучивался неловко, смущенно, ему казалось, что в их словах он слышит
досаду и раздражение людей, которым помешали. В нем поднималась обида
на них и еще какое-то унылое чувство. Человек, которому он помешал убить
себя, был слишком весел и стал даже красивее. Бледность лица выгодно подчеркивала
горячий блеск его глаз, тень на верхней губе стала гуще, заметней, и вообще
Макаров в эти несколько дней неестественно возмужал. Он даже говорил хотя
и слабым, но более низким голосом. Лидия держалась с ним неприятно просто,
без высокомерия и заносчивости, обычных для нее. И хотя Клим заметил,
что и к нему она сегодня добрее, чем всегда, но это тоже было обидно.
- Как мило здесь, не правда ли? - обратилась она к Самгину, сделав круг
рукою. Клим ответил:
- Обычно, как у мещан.
- Подумайте, какой аристократ, - сказал Макаров, пряча
лицо от солнца. Лидия тоже улыбнулась, а Клим быстро представил себе ее
будущее: вот она замужем за учителем гимназии Макаровым, он - пьяница,
конечно; она, беременная уже третьим ребенком, ходит в ночных туфлях,
рукава кофты засучены до локтей, в руках грязная тряпка, которой Лидия
стирает пыль, как горничная, по полу ползают краснозадые младенцы и пищат.
Эта быстро возникшая картина несколько приподняла его угнетенное настроение,
но в дверь заглянула старуха Злобина, приглашая:
- Чай кушать прошу! Сегодня ваши любимые лепешки, Лидия Тимофеевна!
Лидия подбежала к ней, заговорила, гладя тоненькими пальцами седую прядь
волос, спустившуюся на багровую щеку старухи. Злобина тряслась, басовито
посмеиваясь. Клим не слушал, что говорила Лидия, он только пожал плечами
на вопрос Макарова:
- Ты чего смотришь сычом?
"Вот как? - думал он. - Значит, она давно и часто ходит сюда, она
здесь - свой человек? Но почему же Макаров стрелялся?"
С неотразимой навязчивостью вертелась в голове мысль, что
Макаров живет с Лидией так, как сам он жил с Маргаритой, и, посматривая
на них исподлобья, он мысленно кричал:
"Лгуны. Фальшивые люди".
Рядом с ним сидел Злобин, толкал его костлявым плечом и говорил, что он
любит только музыку и мамашу.
- Из-за этой любви я и не женился, потому что, знаете, третий человек
в доме - это уже помеха! И - не всякая жена может вынести упражнения на
скрипке. А я каждый день упражняюсь. Мамаша так привыкла, что уж не слышит...
Клим ушел от этих людей в состоянии настолько подавленном,
что даже не предложил Лидии проводить ее. Но она сама, выбежав за ворота,
остановила его, попросив ласково, с хитренькой улыбкой в глазах:
- Ты не говори дома, что я была здесь, - хорошо? Он утвердительно кивнул
головою. Домой идти не хотелось, он вышел на берег реки и, медленно шагая,
подумал:
"Надо курить; говорят, это успокаивает". За рекою, над гладко
обритой землей, опрокинулась получашей розоватая пустота, напоминая почему-то
об игрушечном, чистеньком домике, о людях в нем. "Как глупо все!"
Дома он застал Варавку и мать в столовой, огромный стол
был закидан массой бумаг, Варавка щелкал косточками счет и жужжал в бороду:
- Ж-жулики.
Мать быстро списывала какие-то цифры с однообразных квадратиков бумаг
на большой, чистый лист, пред нею стояло блюдо с огромным арбузом, пред
Варавкой - бутылка хереса.
- Ну, что твой стрелок? - спросил Варавка. Выслушав ответ Клима, он недоверчиво
осмотрел его, налил полный фужер вина, благочестиво выпил половину, облизал
свою мясную губу и заговорил, откинувшись на спинку стула, пристукивая
пальцем по краю стола:
- Мир делится на людей умнее меня - этих я не люблю - и на людей
глупее меня - этих презираю. Мать, испытующе взглянув на него, спросила:
- Почему ты это... вдруг?
- По необходимости, - ответил Варавка, поддев вилкой кубический кусок
арбуза и отправив его в рот. - Но есть еще категория людей, которых я
боюсь, - продолжал он звонко и напористо. - Это - хорошие русские люди,
те, которые веруют, что логикой слов можно влиять на логику истории. Я
тебе, Клим, дружески советую: остерегайся верить хорошему русскому человеку.
Это - очень милый человек, да! Поболтать с ним о будущем - наслаждение.
Но настоящего он совершенно не понимает. И не видит, как печальна его
роль ребенка, который, мечтательно шагая посредине улицы, будет раздавлен
лошадьми, потому что тяжелый воз истории везут лошади, управляемые опытными,
но неделикатными кучерами. Хорошие наши люди в этом деле - ни при чем.
В лучшем случае они служат лепкой на фасаде воздвигаемого здания, но так
как здание еще только воздвигается, то...
Мать строптиво прервала его речь:
- Однако, вспомни, что Христос...
- Явление тоже преждевременное, а потому - вредное, - продолжал Варавка,
отбивая толстым пальцем такт речи. - Так называемая христианская культура
- нечто подобное радужному пятну нефти на широкой, мутной реке. Культура
- это пока: книжки, картинки, немного музыки и очень мало науки. Культурность
небольшой кучки людей, именующих себя "солью земли", "рыцарями
духа" и так далее, выражается лишь в том, что они не ругаются вслух
матерно и с иронией говорят о ватерклозете. Все живущие "во Христе"
глубоко антикультурны в моем смысле понятия культуры. Культура - это,
дорогая моя, любовь к труду, но такая же неукротимо жадная, как любовь
к женщине...
Варавка, торопливо закурив папиросу, все говорил, говорил,
извергая синий дым. Сафьяновая кожа его лба красновато лоснилась, острые
глазки возбужденно сверкали, дымилась лисья борода, и слова его тоже как
будто дымились.
Климу давно и хорошо знакомы были припадки красноречия Варавки, они особенно
сильно поражали его во дни усталости от деловой жизни. Клим видел, что
с Варавкой на улицах люди раскланиваются все более почтительно, и знал,
что в домах говорят о нем все хуже, злее. Он приметил также странное совпадение:
чем больше и хуже говорили о Варавке в городе, тем более неукротимо и
обильно он философствовал дома.
Сегодня припадок был невыносимо длителен. Варавка даже
расстегнул нижние пуговицы жилета, как иногда он делал за обедом. В бороде
его сверкала красная улыбка, стул под ним потрескивал. Мать слушала, наклоняясь
над столом и так неловко, что девичьи груди ее лежали на краю стола. Климу
было неприятно видеть это.
- Позволь, позволь, - кричал ей Варавка, - но ведь эта любовь к людям,
- кстати, выдуманная нами, противная природе нашей, которая жаждет не
любви к ближнему, а борьбы с ним, - эта несчастная любовь ничего не значит
и не стоит без ненависти, без отвращения к той грязи, в которой живет
ближний! И, наконец, не надо забывать, что духовная жизнь успешно развивается
только на почве материального благополучия.
Прислушиваясь к себе, Клим ощущал в груди, в голове тихую,
ноющую скуку, почти боль; это было новое для него ощущение. Он сидел рядом
с матерью, лениво ел арбуз и недоумевал: почему все философствуют? Ему
казалось, что за последнее время философствовать стали больше и торопливее.
Он был обрадован весною, когда под предлогом ремонта флигеля писателя
Катина попросили освободить квартиру. Теперь, проходя по двору, он с удовольствием
смотрел на закрытые ставнями окна флигеля.
Нередко казалось, что он до того засыпан чужими словами, что уже не видит
себя. Каждый человек, как бы чего-то боясь, ища в нем союзника, стремится
накричать в уши ему что-то свое; все считают его приемником своих мнений,
зарывают, его в песок слов. Это - угнетало, раздражало. Сегодня он был
именно в таком настроении.
Вошла Феня и доложила, что пришел подрядчик.
- Ага! - сердито вскричал Варавка и, вскочив на ноги, ушел тяжелой, но
быстрой походкой медведя. Клим тоже встал, но мать, взяв его под руку,
повела к себе, спрашивая:
- Тебя, очевидно, очень взволновала эта история с Лидией?
Вполголоса, скучно повторяя знакомые Климу суждения о Лидии, Макарове
и явно опасаясь сказать что-то лишнее, она ходила по ковру гостиной, сын
молча слушал ее речь человека, уверенного, что он говорит всегда самое
умное и нужное, и вдруг подумал: а чем отличается любовь ее и Варавки
от любви, которую знает, которой учит Маргарита?
Он тотчас понял всю тяжесть, весь цинизм такого сопоставления, почувствовал
себя виновным пред матерью, поцеловал ее руку и, не глядя в глаза, попросил
ее:
- Не беспокойся, мама! И - прости, я так устал. Она тоже очень крепко
поцеловала его в лоб, сказав:
- Я понимаю, что с твоей исключительной вдумчивостью тебе трудно.
У себя в комнате, сбросив сюртук, он подумал, что хорошо
бы сбросить вот так же всю эту вдумчивость, путаницу чувств и мыслей и
жить просто, как живут другие, не смущаясь говорить все глупости, которые
подвернутся на язык, забывать все премудрости Томилина, Варавки... И забыть
бы о Дронове.
Он плохо спал, встал рано, чувствуя себя полубольным, пошел в столовую
пить кофе и увидал там Варавку, который, готовясь к битве дня, грыз поджаренный
хлеб, запивая его портвейном.
- Слушай, - сказал он, сдвинув брови, тихо, не выпуская руки Клима из
своей и этим заставив юношу ожидать неприятности. - Вчера, не желая волновать
Веру, я не хотел, да и времени не нашел сообщить тебе о Дронове. Мировой
судья Козмин, не зная, что этот индивидуй уже не служит у меня, предупредил,
что Дронов присвоил книжку сберегательной кассы какой-то девицы и на него
подана жалоба. Тут какая-то хитрая история. Но, хотя судья выразился "присвоил",
однако ясно, что дело идет о краже, да еще и не подсудной мировому, потому
что - кража свыше трехсот рублей. Значит - окружный суд. Ты в каких отношениях
с этим парнем? Ага, разошелся? Я очень рад.
Клим тоже обрадовался и, чтобы скрыть это, опустил голову.
Ему
послышалось, что в нем тоже прозвучало торжествующее "Ага",
вспыхнула, как спектр, полоса разноцветных мыслишек и среди них мелькнула
линия сочувственных Маргарите. Варавка, должно быть, поняв его радость
как испуг, сказал несколько утешительных афоризмов:
- Ну, что же, - за порядочность человека никогда нельзя ручаться. Мы выбираем
друзей небрежнее, чем ботинки. Заметь, что человек без друзей - более
человек.
Он самодовольно закончил:
- Я - не имею друзей.
Тут чувство благодарности за радость толкнуло Клима сказать ему, что Лидия
часто бывает у Макарова. К его удивлению, Варавка не рассердился, он только
опасливо взглянул в сторону комнат матери и негромко сказал:
- Да, да. Я знаю. Романтизм, чорт его возьми! Хотя романтизм все-таки,
знаешь, лучше...
Сделав правой рукой неопределенный жест, он сунул под мышку толстый портфель
и спросил тихонько:
- Ты матери не говорил об этом? Нет? И не говори, прошу. Они и без этого
не очень любят друг друга. Я - пошел.
Но как только он исчез - исчезла и радость Клима, ее погасило
сознание, что он поступил нехорошо, сказав Варавке о дочери. Тогда он,
вообще не способный на быстрые решения, пошел наверх, шагая через две
ступени.
Лидия, непричесанная, в оранжевом халатике, в туфлях на босую ногу, сидела
в углу дивана с тетрадью нот в руках. Не спеша прикрыв голые ноги полою
халата, она, неласково глядя на Клима, спросила:
- Что случилось? Почему у тебя такое лицо? Он присел на край дивана и
сразу, как будто опасаясь, что не скажет того, что хочет, сказал:
- Прости меня, но я нечаянно проговорился... Лидия, бросив ноты на колени
себе, остановила его:
- Знаю. Я так и думала, что скажешь отцу. Я, может быть, для того и просила
тебя не говорить, чтоб испытать: скажешь ли? Но я вчера сама сказала ему.
Ты - опоздал.
И в голосе ее и в глазах было нечто глубоко обидное. Клим
молчал, чувствуя, что его раздувает злость, а девушка недоуменно, печально
говорила:
- Не понимаю я тебя. Ты кажешься порядочным, но... как-то все прыгаешь
к плохому. Что это значит?
В словах ее Клим чувствовал брезгливость, он вскочил с дивана, и с невероятной
быстротой между ними разыгралась ссора. Клим сказал тоном старшего:
- Это значит, что в твоем поведении я не вижу ничего хорошего...
- Как ты смешон, - ответила девушка, отодвигаясь в угол дивана, подобрав
под себя ноги.
- Твой роман с Макаровым... Лидия изумленно, гневно, широко раскрыв
глаза, заговорила вполголоса:
- Мое поведение? Роман? Ты - смеешь, ты, мальчишка? Ты воображаешь...
Она задохнулась, видимо, не в силах выговорить какое-то слово, ее смуглое
лицо покраснело и даже вспухло, на глазах показались слезы; перекинув
легкое тело свое на колени, она шептала:
- Ты думаешь...
Клим вдруг испугался ее гнева, он плохо понимал, что она
говорит, и хотел только одного: остановить поток ее слов, все более резких
и бессвязных. Она уперлась пальцем в лоб его, заставила поднять голову
и, глядя в глаза, спросила:
- Неужели ты серьезно думаешь, что я... что мы с Макаровым в таких отношениях?
И не понимаешь, что я не хочу этого... что из-за этого он и стрелял в
себя? Не понимаешь?
Клим чувствовал на коже лба своего острый толчок пальца
девушки, и ему казалось, что впервые за всю свою жизнь он испытывает такое
оскорбление. Говорила Лидия что-то глупенькое и детское, но вела себя,
как взрослая, как дама. Он смотрел в ее серьезное лицо, в печальные глаза,
ему хотелось сказать ей очень злые слова, но они не сползали с языка.
Так, молча, он и ушел к себе, а там, чувствуя горькую сухость во рту и
бессвязный шум злых слов в голове, встал у окна, глядя, как ветер обрывает
листья с деревьев. В стекле он видел отражение своего лица, и, хотя черты
расплылись, оно все-таки напоминало сухое и важное лицо матери.
Со всей решимостью, на какую Клим был способен в этот момент,
он спросил себя: что настоящее, невыдуманное в его чувствах к Лидии? Не
без труда и не скоро он распутал тугой клубок этих чувств: тоскливое ощущение
утраты чего-то очень важного, острое недовольство собою, желание отомстить
Лидии за обиду, половое любопытство к ней и рядом со всем этим напряженное
желание убедить девушку в его значительности, а за всем этим явилась уверенность,
что в конце концов он любит Лидию настоящей любовью, именно той, о которой
пишут стихами и прозой и в которой нет ничего мальчишеского, смешного,
выдуманного.
Он облегченно вздохнул, продолжая размышлять: если б Лидия
любила Макарова, она, из чувства благодарности, должна бы изменить свое
высокомерное отношение к человеку, который спас жизнь ее возлюбленного.
Но он не слышал от нее ни слова благодарности. Это - странно. Сегодня
она сказала нечто непонятное: Макаров стрелялся из страха пред любовью,
так надо понять ее слова. Но вернее, что этот страх живет в самой Лидии.
Клим быстро вспомнил ряд признаков, которые убедили его, что это так и
есть: Лидия боится любви, она привила свой страх Макарову и поэтому виновна
в том, что заставила человека покуситься на жизнь свою. Додуматься до
этого было приятно; просмотрев еще раз ход своих мыслей, Клим поднял голову
и даже усмехнулся, что он - крепкий человек и умеет преодолевать неприятности
быстро.
Он решил держаться с Лидией великодушно, как наиболее редкие
и благородные герои романов, те, которые, любя, прощают все. Уже второй
раз приходилось ему становиться в эту позицию. Но на этот раз он скоро
понял, что такая роль делает его еще менее заметным в глазах Лидии. Рассматривая
себя в зеркале, он видел, что лирическая, грустная мина делает его лицо
незначительным. Он вообще был недоволен своим лицом, находя черты его
мелкими, не отражающими всю сложность его души. Близорукость заставляла
его щуриться, зрачки, сквозь стекла очков, казались неприятно расширенными.
Не нравился нос, прямой и сухонький, он был недостаточно велик, губы -
тонки, подбородок - излишне остр, усы росли двумя светлыми кустиками только
на углах губ. Когда он хмурился, сдвигал негустые брови, лицо становилось
интересней и умней. От лирической мины пришлось отказаться.
Он стал читать Лермонтова, крепкая горечь этих стихов казалась
ему полезной, он все чаще цитировал наиболее едкие строки мрачного поэта.
Он пробовал также говорить с Лидией, как с девочкой, заблуждения которой
ему понятны, хотя он и считает их несколько смешными. При матери и Варавке
ему удавалось выдержать этот тон, но, оставаясь с нею, он тотчас терял
его.
Лидия уезжала в Москву, но собиралась не спеша, неохотно. Слушая беседы
Варавки с матерью Клима, она рассматривала их, точно людей незнакомых,
испытующим взглядом и, очевидно, не соглашаясь с тем, что слышит, резко
встряхивала головою в шапке курчавых волос.
Макаров, выздоровев, уже уехал в университет, он сделал это несколько
подозрительно торопливо; прощаясь с Климом, крепко стиснул руку его, но
сказал только два слова:
- Спасибо, брат.
После его отъезда Самгину показалось, что Лидия стала еще
заметнее избегать встреч с ним глаз на глаз. В глазах ее застыло что-то
монашески унылое и сердитое, но казалось, что она теперь более ребенок,
чем была несколько недель тому назад. Клим заметил, что с матерью его
она стала говорить не так сухо и отчужденно, как раньше, а мать тоже -
мягче с нею. Было что-то тревожное в том, что она иногда приходит в комнату
матери и они сидят там, тихо разговаривая. Около полуночи, после скучной
игры с Варавкой и матерью в преферанс, Клим ушел к себе, а через несколько
минут вошла мать уже в лиловом капоте, в ночных туфлях, села на кушетку
и озабоченно заговорила, играя кистями пояса:
- За лето ты как-то поблек, стал вялым и вообще не похож на себя.
Он молчал, пощипывая кустики усов, догадываясь, что это – предисловие
к серьезной беседе, и - не ошибся. С простотою, почти грубоватой, мать,
глядя на него всегда спокойными глазами, сказала, что она видит его увлечение
Лидией. Чувствуя, что он густо покраснел, Клим спросил, усмехаясь:
- Ты не ошибаешься?
Как бы не услыхав его вопроса, она учительно продолжала:
- Любовь в твоем возрасте - это еще не та любовь, которая... Это еще не
любовь, нет!
Помолчав несколько секунд, она вздохнула.
- Я обвенчалась с отцом, когда мне было восемнадцать лет, и уже через
два года поняла, что это - ошибка.
Она снова замолчала, сказав, видимо, не то, что хотелось,
а Клим, растерянно ловя отдельные фразы, старался понять: чем возмущают
его слова матери?
- Мое отношение к ее отцу... - слышал он, соображая, какими словами напомнить
ей, что он уже взрослый человек. И вдруг сказал небрежно, нахмурясь:
- Я отношусь к Лиде дружески, и, естественно, меня несколько пугает ее
история с Макаровым, человеком, конечно, не достойным ее. Быть может,
я говорил с нею о нем несколько горячо, несдержанно. Я думаю, что это
- все, а остальное - от воображения.
Говоря так, он был уверен, что не лжет, и находил, что говорит хорошо.
Ему показалось, что нужно прибавить еще что-нибудь веское, он сказал:
- Ты знаешь: существует только человек, все же остальное - от его воображения.
Это, кажется, Протагор...
Чуть прищурив глаза, мать отозвалась:
- Это не совсем так, но очень умно. Прекрасная память у тебя. И, конечно,
ты прав: девушки всегда забегают несколько вперед, воображая неизбежное.
Ты успокоил меня. Я и Тимофей так дорожим отношениями, которые создались
и все крепнут между нами...
Клим наклонил голову, смущенный откровенным эгоизмом матери,
поняв, что в эту минуту она только женщина, встревоженная опасением за
свое счастье.
Он спросил:
- Мне кажется, ты стала добрее с Лидой?
- Мой взгляд ты знаешь, он не может измениться, - ответила мать, вставая
и поцеловав его. - Спи!
Ушла, оставив за собой раздражающий запах крепких духов и легкую усмешку
на губах сына.
Беседы с нею всегда утверждали Клима в самом себе, утверждали не столько
словами, как ее непоколебимо уверенным тоном. Послушав ее, он находил,
что все, в сущности, очень просто и можно жить легко, уютно. Мать живет
только собою и - не плохо живет. Она ничего не выдумывает.
Разумеется, кое-что необходимо выдумывать, чтоб подсолить
жизнь, когда она слишком пресна, подсластить, когда горька. Но - следует
найти точную меру. И есть чувства, раздувать которые - опасно. Такова,
конечно, любовь к женщине, раздутая до неудачных выстрелов из плохого
револьвера. Известно, что любовь - инстинкт, так же как голод, но - кто
же убивает себя от голода или жажды или потому, что у него нет брюк?
В минуты таких размышлений наедине с самим собою Клим чувствовал себя
умнее, крепче и своеобразней всех людей, знакомых ему. И в нем постепенно
зарождалось снисходительное отношение к ним, не чуждое улыбчивой иронии,
которой он скрытно наслаждался. Уже и Варавка порою вызывал у него это
новое чувство, хотя он и деловой человек, но все-таки чудаковатый болтун.
Клим получил наконец аттестат зрелости и собирался ехать
в Петербург, когда на его пути снова встала Маргарита. Туманным вечером
он шел к Томилину прощаться, и вдруг с крыльца неприглядного купеческого
дома сошла на панель женщина, - он тотчас признал в ней Маргариту. Встреча
не удивила его, он понял, что должен был встретить швейку, он ждал этой
случайной встречи, но радость свою он, конечно, скрыл.
Осторожно перекинулись незначительными фразами. Маргарита напомнила ему,
что он поступил с нею невежливо. Шли медленно, она смотрела на него искоса,
надув губы, хмурясь; он старался говорить с нею добродушно, заглядывал
в глаза ее ласково и соображал: как внушить ей, чтоб она пригласила его
к себе?
Его тянуло к ней и желание еще раз испытать ее ласки и
одна внезапно вспыхнувшая важная идея. Когда он сочувственно спросил ее
о Дронове, она возразила:
- Ничего подобного, он вовсе не украл книжку. И спокойно, кратко поведала:
- Сам он стыдился копить деньги и складывал их в сберегательную кассу
по моей книжке. А когда мы поссорились...
- Из-за чего?
- Ну, из-за чего ссорятся мужчины с женщинами? Из-за мужчин, из-за женщин,
конечно. Он стал просить у меня свои деньги, а я пошутила, не отдала.
Тогда он стащил книжку, и мне пришлось заявить об этом мировому судье.
Тут Ванька отдал мне книжку; вот и все.
На углу темненького, забитого туманом переулка она предложила:
- Зайдешь? Я на новой квартире живу. Чаю выпьем. В тесной комнатке, ничем
не отличавшейся от прежней, знакомой Климу, он провел у нее часа четыре.
Целовала она как будто жарче, голоднее, чем раньше, но ласки ее не могли
опьянить Клима настолько, чтоб он забыл о том, что хотел узнать. И, пользуясь
моментом ее усталости, он, издали подходя к желаемому, спросил ее о том,
что никогда не интересовало его:
- Как ты жила? Вопрос удивил ее.
- Жила, как все.
Но Клим расспрашивал настойчиво, тогда она немножко отодвинулась от него
и, зевнув, перекрестя рот, сказала:
- Жила, как все девушки, вначале ничего не понимала, потом поняла, что
вашего брата надобно любить, ну и полюбила одного, хотел он жениться на
мне, да - раздумал.
Сказав это спокойно и беззлобно, она закрыла глаза, а Клим, гладя ее щеку,
шею и плечо, поставил, очень ласково, свой главный вопрос:
- А как ты стала женщиной?..
- Тем же порядком, как все, - ответила женщина, двинув плечом и не открывая
глаз.
- Ты - боялась?
- Чего это?
- В первый раз... в первую ночь? Подумав, как бы вспоминая, Маргарита
облизала губы.
- Это было днем, а не ночью; в день Всех святых, на кладбище.
Открыв глаза, она стала сбрасывать волосы, осыпавшие ее
уши, щеки. В жестах ее Клим заметил нелепую торопливость. Она злила, не
желая или не умея познакомить его с вопросом практики, хотя Клим не стеснялся
в словах, ставя эти вопросы.
- Очень обыкновенно, - закружится голова, вот и - прощай девушка.
Кроме этого, она ничего не сказала о технике и доброжелательно начала
знакомить его с теорией. Чтоб удобнее было говорить, она даже села на
постели.
- Слышала я, что товарищ твой стрелял в себя из пистолета. Из-за девиц,
из-за баб многие стреляются. Бабы подлые, капризные. И есть у них эдакое
упрямство... не могу сказать какое. И хорош мужчина, и нравится, а - не
тот. Не потому не тот, что беден или некрасив, а - хорош, да - не тот!
Заплетая волосы в косу, она говорила все более задумчиво:
- Жениться будешь - выбирай девушку с характером; они, которые характерные,
- глупые, они - виднее, сами себя выговаривают. А тихоньких, скромненьких
- опасайся, такие обманывают в час - два раз.
Лицо ее вдруг изменилось, зрачки глаз сузились, точно у
кошки, на желтоватые белки легла тень ресниц, она присматривалась к чему-то
как бы чужими глазами и мстительно вспоминая. Климу показалось, что раньше
она говорила о женщинах не так злостно, а как о дальних родственницах,
от которых она не ждет ничего, ни хорошего, ни дурного; они не интересны
ей, полузабыты ею. И, слушая ее, он еще раз опасливо подумал, что все
знакомые ему люди как будто сговорились в стремлении опередить его; все
хотят быть умнее его, непонятнее ему, хитрят и прячутся в словах. Пожалуй
- именно непонятнее хотят они быть, боясь, что Клим Самгин быстро разгадает
их.
А Маргарита говорила:
- Мне даже не верится, что были святые женщины, наверно, это старые девы
- святые-то, а может, нетронутые девицы.
Слушая сквозь свои думы болтовню Маргариты, Клим еще ждал,
что она скажет ему, чем был побежден страх ее, девушки, пред первым любовником?
Как-то странно, вне и мимо его, мелькнула мысль: в словах этой девушки
есть нечто общее с бойкими речами Варавки и даже с мудрыми глаголами Томилина.
Устав, наконец, слушать ее, Клим скучно сказал:
- Ты сегодня в философском настроении. Маргарита, быстро оглянув себя,
спросила:
- В чем?
А когда он объяснил свои слова, она сказала:
- Ой, а мне подумалось, что ты кровь увидал; у меня пора кровям быть...
Брезгливо вздрогнув, Клим соскочил
с кровати. Простота этой девушки и раньше изредка воспринималась им как
бесстыдство и нечистоплотность, но он мирился с этим. А теперь ушел от
Маргариты с чувством острой неприязни к ней и осуждая себя за этот бесполезный
для него визит. Был рад, что через день уедет в Петербург. Варавка уговорил
его поступить в институт инженеров и устроил все, что было необходимо,
чтоб Клима приняли.
Ночь была холодно-влажная, черная; огни фонарей горели лениво и печально,
как бы потеряв надежду преодолеть густоту липкой тьмы. Климу было тягостно
и ни о чем не думалось. Но вдруг снова мелькнула и оживила его мысль о
том, что между Варавкой, Томилиным и Маргаритой чувствуется что-то сродное,
все они поучают, предупреждают, пугают, и как будто за храбростью их слов
скрывается боязнь. Пред чем, пред кем? Не пред ним ли, человеком, который
одиноко и безбоязненно идет в ночной тьме?
|