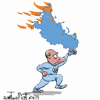| Что Любаша не такова, какой она себя показывала,
Самгин убедился в этом, присутствуя при встрече ее с Диомидовым. Как всегда,
Диомидов пришел внезапно и тихо, точно из стены вылез. Волосы его были
обриты и обнаружили острый череп со стесанным затылком, большие серые
уши без мочек. У него опухло лицо, выкатились глаза, белки их пожелтели,
а взгляд был тоскливый и невидящий.
- В больнице лежал двадцать три дня, - объяснил он и попросил Варвару
дать ему денег взаем до поры, пока он оправится и начнет работать.
Сомова, перестав шить, начала бесцеремонно и вызывающе рассматривать его;
он, взглянув на нее раза два, сердито спросил:
- Что смотрите? Нехорош?
- Мне про вас Лидия Варавка много рассказывала. Ведь вы - анархист?
- Человек я, - ответил он угрюмо и отвернулся. Самгин был чрезвычайно
удивлен обилием и жестокостью злых насмешек, которыми Любаша начала истязать
Диомидова. Ее глазки холодно посветлели, слушая тоже злые ответы Диомидова,
она складывала толстые губы свои так, точно хотела свистнуть, и, перекусывая
нитки, как-то особенно звучно щелкала зубами. Самгин не мог представить
себе, чтоб эта кругленькая Матрешка, будто бы неспособная думать без жалости,
могла до такой степени жестко и ядовито говорить с человеком полубольным.
Она заставила его затравленно съежиться и сказать:
- Шуточки все. Насмешечки. Погодите, посмеются и над вами.
- Улита едет, да - когда-то будет? - ответила она и еще более удивила
Самгина, тотчас же заговорив ласково, дружески:
- Хотите познакомиться с человеком почти ваших мыслей? Пчеловод, сектант,
очень интересный, книг у него много. Поживете в деревне, наберетесь сил.
- Я секты не люблю, - пробормотал Диомидов, прощально пожимая руку хозяйки.
С Климом он не простился, а Сомовой сердито сказал, не подав руки:
- В деревню - не хочу.
Когда он ушел, Клим спросил Любашу:
- Зачем тебе нужно знакомить его с каким-то сектантом?
- Ну, а - куда же его?
- Ты чувствуешь себя призванной размещать людей сообразно твоим... вкусам,
что ли?
- Вот именно! Равняйся! - ответила она, не подняв головы от шитья.
Желая вышутить ее, Самгин не отставал и, наконец, заставил неохотно высказаться:
- Деревня так безграмотно и мало думает, что ей полезны всякие идеи, лишь
бы они тревожили ум.
- Оригинальная мысль, - иронически сказал Самгин, - она, не взглянув на
него, ответила:
- Ты не знаешь деревню.
Она мешала Самгину обдумывать будущее, видеть себя в нем
значительным человеком, который живет устойчиво, пользуется известностью,
уважением; обладает хорошо вышколенной женою, умелой хозяйкой и скромной
женщиной, которая однако способна говорить обо всем более или менее грамотно.
Она обязана неплохо играть роль хозяйки маленького салона, где собирался
бы кружок людей, серьезно занятых вопросами культуры, и где Клим Самгин
дирижирует настроением, создает каноны, законодательствует.
Сомова говорила о будущем в тоне мальчишки, который любит кулачный бой
и совершенно уверен, что в следующее воскресенье будут драться. С этим
приходилось мириться, это настроение принимало характер эпидемии, и Клим
иногда чувствовал, что постепенно, помимо воли своей, тоже заражается
предчувствием неизбежности столкновения каких-то сил.
Благодаря своей наблюдательности, рассказам Любаши и Варвары он стал
вместилищем всех ходовых идей, мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов
и эпиграмм. Он даже начал собирать "открытки" на политические
темы; сначала их навязывала ему Сомова, затем он сам стал охотиться за
ними, и скоро у него образовалась коллекция картинок, изображавших Финляндию,
которая защищает конституцию от нападения двуглавого орла, русского мужика,
который пашет землю в сопровождении царя, генерала, попа, чиновника, купца,
ученого и нищего, вооруженных ложками; "Один с сошкой, семеро - с
ложкой", - подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и
подарила ему фотографию с другого рисунка: на фоне полуразрушенной деревни
стоял царь, нагой, в короне, и держал себя руками за фаллос, - "Самодержец",
- гласила подпись. Был портрет Щедрина, окруженного чудовищами-, Победоносцева
в виде нетопыря и еще много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию
опасной, но уже гордился ею и продолжал пополнять ее, как судебный следователь
материал для обвинительного акта.
Университет, где настроение студентов становилось все более мятежным,
он стал посещать не часто, после того как на одной сходке студент, картинно
жестикулируя, приглашал коллег требовать восстановления устава 64 года.
- Требуем! - неистово кричал сосед Клима, светловолосый, красивенький
второкурсник. Толкнув Самгина локтем, он спросил:
- Вы что же, коллега? Требуйте!
- Я не знаю, какой это устав, - сухо сказал Клим.
- Да ведь и я не знаю, - признался студент и снова закричал: - Согласны!
Петицию министру!
"Варавка прав: эмоциональная оппозиция", - не впервые подумал
Самгин.
Учился он автоматически, без увлечения, уже сознавая, что сделал ошибку,
избрав юридический факультет. Он не представлял себя адвокатом, произносящим
речи в защиту убийц, поджигателей, мошенников. У него вообще не было позыва
к оправданию людей, которых он видел выдуманными, двуличными и так или
иначе мешавшими жить ему, человеку своеобразного духовного строя и даже
как бы другой расы.
Пять, шесть раз он посетил уголовное отделение окружного суда. До этого
он никогда еще не был в суде, и хотя редко бывал в церкви, но зал суда
вызвал в нем впечатление отдаленного сходства именно с церковью; стол
судей - алтарь, портрет царя - запрестольный образ, места присяжных и
скамья подсудимых - клироса.
Первый раз он попал неудачно: судились воры, трое, рецидивисты; люди
разного возраста, но почти одинаково равнодушные к своей судьбе. Они,
видимо, хорошо знали технику процесса, знали, каков будет приговор, держались
спокойно, как люди, принужденные выполнять неизбежную, скучную формальность,
без которой можно бы обойтись; они отвечали на вопросы так же механически
кратко и вежливо, как механически скучно допрашивали их председательствующий
и обвинитель. Только один из воров, седовласый человек с бритым лицом
актера, с дряблым носом и усталым взглядом темных глаз, неприлично похожий
на одного из членов суда, настойчиво, но безнадежно пытался выгородить
своих товарищей. Двое молодых адвокатов, очевидно, "казенные защитники",
перешептывались, совсем как певчие на клиросе, и мало обращали внимания
на своих подзащитных. Деревянно и сонно сидели присяжные, только один
из них, совершенно лысый старичок с голеньким, розовым лицом новорожденного,
с орденом на шее, непрерывно двигал челюстью, смотрел на подсудимых остренькими
глазками и ехидно улыбался, каждый раз, когда седой вор спрашивал, вставая:
- Разрешите сказать? Позвольте напомнить?
От скуки Самгин сосчитал публику: мужчин оказалось двадцать три, женщин
- девять. Толстая, большеглазая, в дорогой шубе и в шляпке, отделанной
стеклярусом, была похожа на актрису в роли одной из бесчисленных купчих
Островского. Затем, сосчитав, что троих судят более двадцати человек,
Самгин подумал, что это очень дорогая процедура.
В другой раз он попал на дело, удивившее его своей анекдотической дикостью.
На скамье подсудимых сидели четверо мужиков среднего возраста и носатая
старуха с маленькими глазами, провалившимися глубоко в тряпичное лицо.
Люди эти обвинялись в убийстве женщины, признанной ими ведьмой.
Солнце зимнего полудня двумя широкими лучами освещало по одну сторону
зала гладко причесанную бронзовую голову прокурора и десять разнообразных
профилей присяжных, десятый обладал такой большой головой и пышной прической,
что головы двух его товарищей не были видны. По другую сторону - подсудимые
в арестантских халатах; бородатые, они были похожи друг на друга, как
братья, и все смотрели на судей одинаково обиженно. Пред ними подскакивал
и качался на тонких ножках защитник, небольшой человек с выпученным животом
и седым коком на лысоватой голове; он был похож на петуха и обладал раздражающе
звонким голосом. Председательствовал бритый, удавленный золотым воротником
до того, что оттопырились и посинели уши, а толстое лицо побагровело и
туго надулось. Но говорил он мягким голосом женщины и даже нежно.
- Итак, вы сознаетесь, что первый признали убитую ведьмой?
Один из подсудимых, стоя, сложив руки на животе, оскорбленно ответил:
- Зачем - первый? Вся деревня знала. Мне только ветер помог хвост увидать.
Она бельишко полоскала в речке, а я лодку конопатил, и было ветрено, ветер
заголил ее со спины, я вижу - хвост!..
- Подождите! Вы знаете, что в промежности растут волосы?
- Чего это? - недоверчиво спросил подсудимый. Председатель стал объяснять,
люди, сидевшие на скамье по бокам Самгина, подались вперед, как бы ожидая
услышать нечто удивительное. Подсудимый, угрюмо выслушав объяснение, приподнял
плечи и сказал ворчливо:
- Это мы знаем. У нее - не волосья, а хвост метелкой, как у коровы, али
у зайца, пучком, значит, вот что! Присяжные ухмылялись, публика захихикала.
- Тише! Прикажу очистить зал, - погрозил председательствующий, расстегнул
воротник мундира и, поставив мужику еще несколько уже менее рискованных
вопросов, объявил перерыв.
Самгин ушел отупевшим, угнетенным, но через несколько дней, пересилив
себя, снова сидел в зале суда. На этот раз слушалось дело отцеубийцы,
толстого, черноволосого парня; защищал его знаменитый адвокат, тоже толстый,
обрюзгший. Говорил он гибким, внушительным баском, и было ясно, что он
в совершенстве постиг секрет: сколько слов требует та или иная фраза для
того, чтоб прозвучать уничтожающе в сторону обвинителя, человека с лицом
блудного сына, только что прощенного отцом своим. В осанке, в жестах защитника
было много актерского, но все-таки казалось, что он-то и есть главнейший
судья. Публики было много, полон зал, и все смотрели только на адвоката,
а подсудимый забыто сидел между двух деревянных солдат с обнаженными саблями
в руках, - сидел, зажав руки в коленях, и, косясь на публику глазами барана,
мигал. Глаза его, в которых застыл тупой испуг, его низкий лоб, густые
волосы, обмазавшие череп его, как смола, тяжелая челюсть, крепко сжатые
губы - все это крепко въелось в память Самгина, и на следующих процессах
он уже в каждом подсудимом замечал нечто сходное с отцеубийцей.
"Очевидно, Ломброзо все-таки прав: преступный тип существует, а
Дриль не хотел признать его из чувства человеколюбия, в криминальной области
неуместного. Даже - вредного".
Сделав этот вывод, Самгин вполне удовлетворился им, перестал ходить в
суд и еще раз подумал, что ему следовало бы учиться в институте гражданских
инженеров, как советовал Варавка.
Затем у него было еще одно очень неприятное впечатление. Поздно, лунной
ночью возвращаясь от Варвары, он шел бульварами. За час перед этим землю
обильно полил весенний дождь, теплый воздух был сыроват, но насыщен запахом
свежей листвы, луна затейливо разрисовала землю тенями деревьев. Самгин
был настроен благодушно и думал, что, пожалуй, ему следует переехать жить
к Варваре, она очень хотела этого, и это было бы удобно, - и она и Анфимьевна
так заботливо ухаживали за ним. В Варваре он открыл положительное качество:
любовь к уюту, она неутомимо украшала свое гнездо. Самгин понимал:
"Ждет хозяина".
- Это вы, Самгин? - окрикнул его человек, которого он только что обогнал.
Его подхватил под руку Тагильский, в сером пальто, в шляпе, сдвинутой
на затылок, и нетрезвый; фарфоровое лицо его в красных пятнах, глаза широко
открыты и смотрят напряженно, точно боясь мигнуть.
- За девочками охотитесь? Поздновато! И - какие же тут девочки? - болтал
он неприлично громко. - Ненавижу девочек, пользуюсь, но - ненавижу. И
прямо говорю: "Ненавижу тебя за то, что принужден барахтаться с тобой".
Смеется, идиотка. Все они - воровки.
Самгин вспомнил, что с месяц тому назад он читал в пошлом "Московском
листке" скандальную заметку о студенте с фамилией, скрытой под буквой
Т. Студент обвинял горничную дома свиданий в краже у него денег, но свидетели
обвиняемой показали, что она всю эту ночь до утра играла роль не горничной,
а клиентки дома, была занята с другим гостем и потому - истец ошибается,
он даже не мог видеть ее. Заметка была озаглавлена: "Ошибка ученого".
- Кстати, о девочках, - болтал Тагильский, сняв шляпу, обмахивая ею
лицо свое. - На днях я был в компании с товарищем прокурора - Кучиным,
Кичиным? Помните керосиновый скандал с девицей Ветровой, - сожгла себя
в тюрьме, - скандал, из которого пытались сделать историю? Этому Кичину
приписывалось неосторожное обращение с Ветровой, но, кажется, это чепуха,
он - не ветреник.
Тагильский засмеялся, довольный своим каламбуром.
- Нет, он не Свидригайлов и вообще не свирепый человек, а - человек "с
принципами" и эдакий, знаете, прямых линий...
Он поскользнулся, Самгин поддержал его.
- Постойте - я забыл в ресторане интересную книгу и перчатки, - пробормотал
Тагильский, щупая карманы и глядя на ноги, точно он перчатки носил на
ногах. - Воротимтесь? - предложил он. - Это недалеко. Выпьем бутылку вина,
побеседуем, а?
И, не ожидая согласия Клима, он повернул его вокруг себя с ловкостью и
силой, неестественной в человеке полупьяном. Он очень интересовал Самгина
своею позицией в кружке Прейса, позицией человека, который считает себя
умнее всех и подает свои реплики, как богач милостыню. Интересовала набалованность
его сдобного, кокетливого тела, как бы нарочно созданного для изящных
костюмов, удобных кресел.
- Давно не были у Прейса? - спросил Самгин.
- Я там немножко поссорился, чтоб рассеять, скуку, - ответил Тагильский
небрежно, толкнул ногою дверь ресторана и строго приказал лакею найти
его перчатки, книгу. В ресторане он стал как будто трезвее и за столиком,
пред бутылкой удельного вина стал рассказывать вполголоса, с явным удовольствием:
- Этот Кичин преинтересно рассуждал: "Хотя, говорит, марксизм вероучение
солидно построенное, но для меня - неприемлемо, я - потомственный буржуа".
Согласитесь, что надо иметь некоторое мужество, чтоб сказать так!
Его глаза с неподвижными зрачками взглянули в лицо Клима вызывающе,
пухлые и яркие губы покривились задорной усмешкой, он облизал их языком
длинным и тонким, точно у собаки. Сидели они у двери в комнату, где гудела
и барабанила музыкальная машина. Было очень шумно, дымно, невдалеке за
столом возбужденный еврей с карикатурно преувеличенным носом непрерывно
шевелил всеми десятью пальцами рук пред лицом бородатого русского, курившего
сигару, еврей тихо, с ужасом на лице говорил что-то и качался на стуле,
встряхивал кудрявой головою. За другим столом лениво кушала женщина с
раскаленным лицом и зелеными камнями в ушах, против нее сидел человек,
похожий на министра Витте, и старательно расковыривал ножом череп поросенка.
Тагильский, прихлебывая вино, рассказывал, очень понизив голос:
- "Людей, говорит, моего класса, которые принимают эту философию
истории как истину обязательную и для них, я, говорит, считаю ду-ра-ка-ми,
даже - предателями по неразумию их, потому что неоспоримый закон подлинной
истории - эксплоатация сил природы и сил человека, и чем беспощаднее насилие
- тем выше культура". Каково, а? А там - закоренелые либералы были...
Машина замолчала, последние звуки труб прозвучали вразнобой и как сквозь
вату, еврей не успел понизить голос, и по комнате раскатились отчаянные
слова:
- Ну, кто же будет строить эту фабрику, где никого нет? Туда нужно ехать
семь часов на паршивых лошадях!
Человек, похожий на Витте, разломил беленький, смеющийся череп, показал
половинку его даме и упрекающим голосом спросил лакея:
- Человек! Где же мозг, а? Что ж вы даете? Еврей сконфуженно оглянулся
и спрятал голову в плечи, заметив, что Тагильский смотрит на него с гримасой.
Машина снова загудела, Тагильский хлебнул вина и наклонился через стол
к Самгину:
- Нет, в самом деле, - храбрый малый, не правда ли? - спросил он.
- Может быть - обозлен, - заметил Клим.
- Может быть, но - все-таки! Между прочим, он сказал, что правительство,
наверное, откажется от административных воздействий в пользу гласного
суда над политическими. "Тогда, говорит, оно получит возможность
показать обществу, кто у нас играет роли мучеников за правду. А то, говорит,
у нас слишком любят арестантов, униженных, оскорбленных и прочих, которые
теперь обучаются, как надобно оскорбить и унизить культурный мир".
Подвинув Климу портсигар, с тоненькими папиросками, он спросил:
- Вы замечаете, как марксизм обостряет отношения?
Самгин молча пожал плечами. Он, протирая очки, слушал очень внимательно
и подозревал, что этот плотненький, уютный человечек говорит не то, что
слышал, а то, что он сам выдумал.
"Весьма похоже, что он хочет спровоцировать меня на откровенность",
- соображал Клим.
Однако Тагильский как будто стал трезвее, чем он был на улице, его кисленький
голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко,
а лицо сияло удовольствием.
- А ведь согласитесь, Самгин, что такие пр-рямолинейные люди, как наш
общий знакомый Поярков, обучаются и обучают именно вражде к миру культурному,
а? - спросил Тагильский, выливая в стакан Клима остатки вина и глядя в
лицо его с улыбочкой вызывающей.
- Не знаю, чему и кого обучает Поярков, - очень сухо сказал Самгин. -
Но мне кажется, что в культурном мире слишком много... странных людей,
существование которых свидетельствует, что мир этот - нездоров.
Говоря, он думал:
"Несомненно провоцирует, скотина!"
И, чтобы перевести беседу на другие темы, спросил:
- У вас - государственные экзамены? Тагильский утвердительно кивнул головою
и зачем-то стукнул по столу розовым кулачком.
- Куда же вы затем?
- Удивитесь, если я в прокуратуру пойду? - спросил он, глядя в лицо Самгина
и облизывая губы кончиком языка; глаза его неестественно ярко отражали
свет лампы, а кончики закрученных усов приподнялись.
- Чему же удивляться? Я - адвокат, вы - прокурор...
- А представьте, что вы - обвиняемый в политическом процессе, а я - обвинитель?
- Не пощадите?
- Нет. Этот Кучин, Кичин - чорт! - говорит: "Чем умнее обвиняемый,
тем более виноват", а вы - умный, искреннее слово! Это ясно хотя
бы из того, как вы умело молчите.
Ресторан уже опустел. Лакеи смотрели на запоздавших гостей уныло и вопросительно,
один из них красноречиво прятал зевки в салфетку, и казалось, что его
тошнит.
- Пора уходить, - сказал Самгин. На улице минуты две-три шли молча; Самгин
ожидал еще какой-нибудь выходки Тагильского и не ошибся:
- Россия нуждается в ассенизаторах, - не помните, кто это сказал? - спросил
Тагильский, Клим ответил:
- Вы сказали.
- Нет, я - повторил. А сказал Леонтьев, помнится. Он или Катков.
- Не знаю.
Через несколько шагов Тагильский снова спросил:
- Не хотите ли посетить двух сестер, они во всякое время дня и ночи принимают
любезных гостей? Это - очень близко.
Клим отказался. Тогда Тагильский, пожав его руку маленькой, но крепкой
рукою, поднял воротник пальто, надвинул шляпу на глаза и свернул за угол,
шагая так твердо, как это делает человек, сознающий, - что он выпил лишнее.
"Ассенизатор, - подумал Самгин, взглянув вслед ему. - Воображает
себя умником. Похож на альфонса, утешителя богатых старух".
Ругаясь, он подумал о том, как цинично могут быть выражены мысли, и еще
раз пожалел... что избрал юридический факультет. Вспомнил о статистике
Смолине, который оскорбил товарища прокурора, потом о длинном языке Тагильского.
"Врет он, не пойдет в прокуратуру, храбрости не хватит..."
Кончив экзамены, Самгин решил съездить дня на три домой, а затем – по
Волге на Кавказ. Домой ехать очень не хотелось; там Лидия, мать, Варавка,
Спивак - люди почти в равной степени тяжелые, не нужные ему. Там "Наш
край", Дронов, Иноков - это тоже мало приятно. Случай указал ему
другой путь; он уже укладывал вещи, когда подали телеграмму от матери.
"Отец опасно болен, советую съездить Выборг".
Отец - человек хорошо забытый, болезнь его не встревожила Самгина, а
возможность отложить визит домой весьма обрадовала; он отвез лишние вещи
Варваре и поехал в Финляндию.
В чистеньком городке, на тихой, широкой улице с красивым бульваром посредине,
против ресторана, на веранде которого, среди цветов, играл струнный оркестр,
дверь солидного, но небольшого дома, сложенного из гранита, открыла Самгину
плоскогрудая, коренастая женщина в сером платье и, молча выслушав его
объяснения, провела в полутемную комнату, где на широком диване у открытого,
но заставленного окна полулежал Иван Акимович Самгин. Лицо его перекосилось,
правая половина опухла и опала, язык вывалился из покривившегося рта,
нижняя туба отвисла, показывая зубы, обильно украшенные золотом. Правый
глаз отца, неподвижно застывший, смотрел вверх, в угол, на бронзовую статуэтку
Меркурия, стоявшего на одной ноте, левый улыбался, дрожало веко, смахивая
слезы на мокрую, давно небритую щеку; Самгин-отец говорил горлам:
- Км... Дм...
Самгин-сын посмотрел на это несколько секунд и, опустив голову, прикрыл
глаза, чтоб не видеть. В изголовье дивана стояла, точно вырезанная из
гранита, серая женщина и ворчливым голосом, удваивая гласные, искажая
слова, говорила:
- Ээто вваа ударр. Одна-а - маленьки, тништево-о!
Лицо у нее широкое, с большим ртом без губ, нос приплюснутый, на скуле
под левым глазом бархатное родимое пятно.
- Вваа рребенки, - говорила она, показывая Климу два пальца, как детям
показывают рога.
"Что же я тут буду делать с этой?" - спрашивал он себя и, чтоб
не слышать отца, вслушивался в шум ресторана за окном. Оркестр перестал
играть и начал снова как раз в ту минуту, когда в комнате явилась еще
такая же серая женщина, но моложе, очень стройная, с четкими формами,
в пенснэ на вздернутом носу. Удивленно посмотрев на Клима, она спросила,
тихонько и мягко произнося слова:
- Вы - не Димитри, вы - Килим? О, понимаю! Рядом с каменным лицом первой,
ее лицо показалось Климу приятным. Она пригладила ладонью вставшие дыбом
волосы на голове больного, отерла платком слезоточивый глаз, мокрую щеку
в белой щетине, и после этого все пошло очень хорошо и просто. Прежде
всего хорошо было, что она тотчас же увела Клима из комнаты отца; глядя
на его полумертвое лицо, Клим чувствовал себя угнетенно, и жутко было
слышать, что скрипки и кларнеты, распевая за окном медленный, чувствительный
вальс, не могут заглушить храп и мычание умирающего.
В столовой, стены которой были обшиты светлым деревом, а на столе кипел
никелированный самовар, женщина сказала:
- Мое имя - Айно, можно говорить Анна Алексеевна. Та, - она указала на
дверь в комнату отца, - сестра, Христина.
Закурив папиросу, она долго махала пред лицом своим спичкой, не желавшей
угаснуть, отблески огонька блестели на стеклах ее пенснэ. А когда спичка
нагрела ей пальцы, женщина, бросив ее в пепельницу, приложила палец к
губам, как бы целуя его.
- Как вы узнали? - спросила она. - Я послала телеграмму Дмитри.
Клим солидно объяснил ей, что, живя под надзором полиции, брат не может
приехать и переслал телеграмму матери.
- Так, - сказала она, наливая чай. - Да, он не получил телеграмму, он
кончил срок больше месяца назад и он немного пошел пешком с одними этнографы.
Есть его письмо, он будет сюда на эти дни.
Голос у нее был сильный, но не богатый оттенками, и хотя она говорила
неправильно, но не затруднялась в поисках слов.
- Вы хотите дождать его говорить об имущество или не хотите? - спросила
она, подвигая Климу стакан.
Несколько сконфуженный ее осведомленностью о Дмитрии, Самгин вежливо,
но решительно заявил, что не имеет никаких притязаний к наследству; она
взглянула на него с улыбкой, от которой углы рта ее приподнялись и лицо
стало короче.
- Нет, - сказала она. - Это - неприятно и нужно кончить сразу, чтоб не
мешало. Я скажу коротко: есть духовно завещание - так? Вы можете читать
его и увидеть: дом и все это, - она широко развела руками, - и еще много,
это - мне, потому что есть дети, две мальчики. Немного Димитри, и вам
ничего нет. Это - несправедливо, так я думаю. Нужно сделать справедливо,
когда приедет брат.
Клим еще раз повторил, что ему ничего не нужно, но она усмехнулась:
- Это потому, что вы еще молодой и не знаете, сколько нужно деньги.
На минуту лицо ее стало еще более мягким, приятным, а затем губы сомкнулись
в одну прямую черту, тонкие и негустые брови сдвинулись, лицо приняло
выражение протестующее.
- Ваш отец был настоящий русский, как дитя, - сказала она, и глаза ее
немножко покраснели. Она отвернулась, прислушиваясь. Оркестр играл что-то
бравурное, но музыка доходила смягченно, и, кроме ее, извне ничего не
было слышно. В доме тоже было тихо, как будто он стоял далеко за городом.
"Об отце она говорит, как будто его уже нет", - отметил Клим,
а она, оспаривая кого-то, настойчиво продолжала, пристукивая ногою; Клим
слышал, что стучит она плюсной, не поднимая пятку.
- Он был добрый. Знал - все, только не умеет знать себя. Он сидел здесь
и там, - женщина указала рукою в углы комнаты, - но его никогда не было
дома. Это есть такие люди, они никогда не умеют быть дома, это есть -
русские, так я думаю. Вы - понимаете?
Клим согласно наклонил голову.
Уже совсем тихо она сказала:
- Он играл в преферанс, а думал о том, что английский народ глупеет от
спорта; это волновало его, и он всегда проигрывал. Но ему любили за то,
что проигрывал, и - не в карты - он выигрывал. Такой он был... смешной,
смешной!
Ее серые глаза снова и уже сильнее покраснели, но она улыбалась, обнажив
очень плотно составленные мелкие и белые зубы.
Самгин нашел, что и лицом и фигурой она напоминает мать, когда той было
лет тридцать.
"Может быть, отец потому и влюбился в нее".
Но не это сходство было приятно в подруге отца, а сдержанность ее чувства,
необыкновенность речи, необычность всего, что окружало ее и, несомненно,
было ее делом, эта чистота, уют, простая, но красивая, легкая и крепкая
мебель и ярко написанные этюды маслом на стенах. Нравилось, что она так
хорошо и, пожалуй, метко говорит некролог отца. Даже не показалось лишним,
когда она, подумав, покачав головою, проговорила тихо и печально:
- Он имел очень хороший организм, но немножко усердный пил красное вино
и ел жирно. Он не хотел хорошо править собой, как крестьянин, который
едет на чужой коне.
Пришла ее каменная сестра, садясь на стул, она точно переломилась в
бедрах и коленях; хотя она была довольно полная, все ее движения казались
карикатурно угловатыми. Айно спросила Клима: где он остановился?
- Я посылаю за ваши вещи, - а когда Клим стал отказываться от переезда
в ее дом, она сказала просто, но твердо:
- Мне будет стыдно, когда сын живет не там, где умирает отец.
Вообще все шло необычна просто и легко, и почти не чувствовалось, забывалось,
как-то, что отец умирает. Умер Иван Самгин через день, около шести часов
утра, когда все в доме спали, не спала, должно быть, только Айно; это
она, постучав в дверь комнаты Клима, сказала очень громко и странно низким
голосом:
- Иван помер.
Два дня прошли в хлопотах, лишенных той растерянности и бестолковой
суеты, которые Клим наблюдал при похоронах в России. Ему было несколько
неловко принимать выражения соболезнования русских знакомых отца и особенно
надоедал молодой священник, говоривший об умершем таинственно, вполголоса
и с восторгом, как будто о человеке, который неожиданно совершил поступок
похвальный. Но и священник, лицом похожий на Тагильского, был приятный
и, видимо, очень счастливый человек, он сиял ласковыми улыбками, пел высочайшим
тенором, произнося слова песнопений округло, четко; он, должно быть, не
часто хоронил людей и был очень доволен возможностью показать свое мастерство.
Айно шла за гробом одетая в черное, прямая, высоко подняв голову, лицо
у нее было, неподвижное, протестующее, но она не заплакала даже и тогда,
когда гроб опустили в яму, она только приподняла плечи и согнулась немного.
Клим почувствовал желание нравиться ей и даже спросил ее по дороге к дому:
где же дети?
- О! Их нет, конечно. Детям не нужно видеть больного и мертвого отца и
никого мертвого, когда они маленькие. Я давно увезла их к моей матери
и брату. Он - агроном, и у него - жена, а дети - нет, и она любит мои
до смешной зависти.
Через день Клим хотел уехать, но она очень удивилась и не пустила его.
- Как это? Вы не видели брата стольки годы и не хотите торопиться видеть
его? Это - плохо. И нам нужно говорить о духовной завещании.
Самгин устыдился, но сказал, что до приезда брата он хотел бы посмотреть
Финляндию.
- Так. Посмотреть Суоми - можно! - разрешила она. - Я дам адресы мои друзья,
вы поедете туда, сюда, и вам покажут страну.
Он поехал по Саймскому каналу, побывал в Котке, Гельсингфорсе, Або и почти
месяц приятно плутал "туда-сюда" по удивительной стране, до
этого знакомой ему лишь из гимназического учебника географии да по какой-то
книжке, из которой в памяти уцелела фраза:
"Вот я в самом сердце безрадостной страны болот, озер, бедных лесов,
гранита и песка, в стране угрюмых пасынков суровой природы".
Была в этой фразе какая-то внешняя правда, одна из тех правд, которые
он легко принимал, если находил их приятными или полезными. Но здесь,
среди болот, лесов и гранита, он видел чистенькие города и хорошие дороги,
каких не было в России, видел прекрасные здания школ, сытый скот на опушках
лесов; видел, что каждый кусок земли заботливо обработан, огорожен и всюду
упрямо трудятся, побеждая камень и болото, медлительные финны.
- Хюва пейва2, - говорили они ему сквозь зубы и с чувством собственного
достоинства.
------------
2 Здравствуйте (фин.).
Ему нравилось, что эти люди построили жилища свои кто где мог или хотел
и поэтому каждая усадьба как будто монумент, возведенный ее хозяином самому
себе. Царила в стране Юмала и Укко серьезная тишина, - ее особенно утверждало
меланхолическое позвякивание бубенчиков на шеях коров; но это не была
тишина пустоты и усталости русских полей, она казалась тишиной спокойной
уверенности коренастого, молчаливого народа в своем праве жить так, как
он живет.
Самгин вспомнил, что в детстве он читал "Калевалу", подарок
матери; книга эта, написанная стихами, которые прыгали мимо памяти, показалась
ему скучной, но мать все-таки заставила прочитать ее до конца. И теперь
сквозь хаос всего, что он пережил, возникали эпические фигуры героев Суоми,
борцов против Хииси и Луохи, стихийных сил суровой природы, ее Орфея Вейнемейнена,
сына Ильматар, которая тридцать лет носила его во чреве своем, веселого
Лемникейнена - Бальдура финнов, Ильмаринена, сковавшего Сампо, сокровище
страны.
"Вот этот народ заслужил право на свободу", - размышлял Самгин
и с негодованием вспоминал как о неудавшейся попытке обмануть его о славословиях
русскому крестьянину, который не умеет прилично жить на земле, несравнимо
более щедрой и ласковой, чем эта хаотическая, бесплодная земля.
"Да, здесь умеют жить", - заключил он, побывав в двух-трех своеобразно
благоустроенных домах друзей Айно, гостеприимных и прямодушных людей,
которые хорошо были знакомы с русской жизнью, русским искусством, но не
обнаружили русского пристрастия к спорам о наилучшем устроении мира, а
страну свою знали, точно книгу стихов любимого поэта.
Удивительна была каменная тишина теплых, лунных ночей, странно густы
и мягки тени, необычны запахи, Клим находил, что все они сливаются в один
- запах здоровой, потной женщины. В общем он настроился лирически, жил
в непривычном ему приятном бездумье, мысли являлись не часто и, почти
не волнуя, исчезали легко.
Но в Выборг он вернулся несколько утомленный обилием новых впечатлений
и настроенный, как чиновник, которому необходимо снова отдать себя службе,
надоевшей ему. Встреча с братом, не возбуждая интереса, угрожала длиннейшей
беседой о политике, жалобными рассказами о жизни ссыльных, воспоминаниями
об отце, а о нем Дмитрий, конечно, ничего не скажет лучше, чем сказала
Айно.
Дмитрий встретил его с тихой, осторожной, но все-таки с тяжелой и неуклюжей
радостью, до боли крепко схватил его за плечи жесткими пальцами, мигая,
улыбаясь, испытующе заглянул в глаза и сочным голосом одобрительно проговорил:
- Ка-акой ты стал! Ну, поцелуемся?
В пестрой ситцевой рубахе, в измятом, выцветшем пиджаке, в ботинках, очень
похожих на башмаки деревенской бабы, он имел вид небогатого лавочника.
Волосы подстрижены в скобку, no-мужицки; широкое, обветренное лицо с облупившимся
носом густо заросло темной бородою, в глазах светилось нечто хмельное
и как бы даже виноватое.
- А я тут шестой день, - говорил он негромко, как бы подчиняясь тишине
дома. - Замечательно интересно прогулялся по милости начальства, больше
пятисот верст прошел. Песен наслушался - удивительнейших! А отец-то, в
это время, - да-а... - Он почесал за ухом, взглянув на Айно. - Рано он
все-таки...
С Айно у него уже, видимо, установились дружеские отношения: Климу казалось,
что она посматривает на Дмитрия сквозь дым папиросы с тем платоническим
удовольствием, с каким женщины иногда смотрят на интересных подростков.
Она уже успела сказать Климу:
- Он больше похожий на отца, как вы - я думаю. Она сказала это, когда
Дмитрий на минуту вышел из комнаты. Вернулся он с серебряной табакеркой
в руке.
- Вот тебе подарок. Это при Елизавете Петровне сделано, в Устюге. Не плохо?
Я там собрал кое-какой материал для статьи об этом искусстве. Айно - ковш
целовальничий подарил, Алексея Михайловича...
Клим, любуясь ковшом, спросил:
- Не скучно было жить?
- Ну, что ты! Это, брат, интереснейший край. Было ясно, что Дмитрий не
только не утратил своего простодушия, а как будто расширил его. Мужиковатость
его казалась естественной и говорила Климу о мягкости характера брата,
о его подчинении среде.
"Таким - легко жить", - подумал он, слушая рассказ Дмитрия
о поморах, о рыбном промысле. Рассказывая, Дмитрий с удовольствием извозчика
пил чай, улыбался и, не скупясь, употреблял превосходную степень:
- Несокрушимейший народ. Удивительнейшая штука.
- Ты что ж - домой? - спросил Клим.
- Домой, это...? Нет, - решительно ответил Дмитрий, впустив глаза и вытирая
ладонью мокрые усы, - усы у него загибались в рот, и это очень усиливало
добродушное выражение его лица. - Я, знаешь, недолюбливаю Варавку. Тут
еще этот его "Наш край", - прескверная газетка! И - чорт его
знает! - он как-то садится на все, на дома, леса, на людей...
"Нелепо говорить так при чужой женщине", - подумал Клим, а брат
говорил:
- Я во Пскове буду жить. Столицы, университетские города, конечно, запрещены
мне. Поживу во Пскове до осени - в Полтаву буду проситься. Сюда меня на
две недели пустили, обязан ежедневно являться в полицию. Ну, а ты - как
живешь? Помнится, тебя марксизм не удовлетворял?
Клим, усмехнувшись, подумал:
"Начинается".
И, вспомнив Томилина, сказал докторально:
- Для того, чтоб хорошо понять, не следует торопиться верить; сила познания
- в сомнении.
- И я так думаю, - сказала Айно, кивнув головою. Дмитрий посмотрел на
нее, на брата и, должно быть, сжал зубы, лицо его смешно расширилось,
волосы бороды на скулах встали дыбом, он махнул рукою за плечо свое и,
шумно вздохнув, заговорил, поглаживая щеки:
- Там, знаешь, очень думается обо всем. Людей - мало, природы - много;
грозный край. Пустота, требующая наполнения, знаешь. Когда меня переселили
в Мезень...
- За что? - осведомился Клим.
- Чорт их знает! Вообразили, что я хотел бежать из Устюга. Ну, через тринадцать
месяцев снова перегнали в Устюг. Я не жалуюсь, - интереснейшие места видел!
Он усмехнулся, провел ладонями по лицу, пригладил бороду.
- Так вот, знаешь, - Мезень. Так себе - небольшое село, тысячи две людей.
Море - Змей Мидгард, зажавший землю в кольце своем. Что оно Белое - это
плохо придумано, оно, знаешь, эдакое оловянное и скверного характера,
воет, рычит, особенно - по ночам, а ночи - без конца! И разные шалости,
например - северное сияние. Когда я впервые увидал этот мятеж огня, безумнейшее,
безгласнейшее волшебство миллионов радуг, - не стыжусь сознаться - струсил
я! Некоторое время жил без ума, чувствуя себя пустым, как мыльный пузырь,
отражающий эту игру холодного пламени. Миры сгорают, а я - пустой зритель
катастрофы.
Дмитрий ослепленно мигнул и стер ладонью морщины с широкого лба, но тотчас
же, наклонясь к брату, спросил:
- А может быть, следует, чтоб идеология стесняла? А?
- Зачем? - осведомился Клим.
- Есть в человеке тенденция расплываться, стихийничать.
- Мысль - церковная.
- Н-да, похоже, - согласился Дмитрий, но, подумав несколько секунд, заметил:
- В государственном праве - тоже эта мысль. Попросил Айно налить ему чаю
и оживленно начал рассказывать:
- Домохозяин мой, рыбак, помор, как-то сказал мне:
"Вот, Иваныч, внушаешь ты, что людям надо жить получше, полегче,
а ведь земля - против этого! И я тоже против; потому что вижу: те люди,
которые и лучше живут, - хуже тех, которые живут плохо. Я тебе, Иваныч,
прямо скажу: работники мои - лучше меня, однакож я им снасть и шняку не
отдам, в работники не пойду, коли бог помилует. А, по совести говорю,
знаю я, что работники лучше меня и что нечестно я с ними живу, как все
хозяева. Ну, а сделай ты их хозяевами, они тоже моим законом будут жить.
Вот какой тут узелок завязан".
Дмитрий начал рассказывать нехотя, тяжеловато, но скоро оживился, заговорил
торопливо, растягивая и подчеркивая отдельные слова, разрубая воздух ребром
ладони. Клим догадался, что брат пытается воспроизвести характер чужой
речи, и нашел, что это не удается ему. "Бездарен он".
Дмитрий замолчал, и ожидающий, вопросительный взгляд его принудил Клима
сказать:
- Выходит так, что как будто идеология не стесняла этого человека.
- Это - плохой человек, - решительно заметила Айно.
- Плохой, думаете? - спросил Дмитрий, рассматривая ее.
- О да, я так думаю. Я не знаю, как сказать, но - очень плохой!
Дмитрий, наморщив лоб, вздохнул и пробормотал:
- Ну, тут надобно знать что-то, чего я не знаю. И продолжал, обращаясь
к брату:
- Пробовал я там говорить с людями - не понимают. То есть - понимают,
но - не принимают. Пропагандист я - неумелый, не убедителен. Там все индивидуалисты...
не пошатнешь! Один сказал: "Что ж мне о людях заботиться, ежели они
обо мне и не думают?" А другой говорит: "Может, завтра море
смерти моей потребует, а ты мне внушаешь, чтоб я на десять лет вперед
жизнь мою рассчитывал". И всё в этом духе...
Он вызывал у Клима впечатление человека смущенного, и Климу приятно
было чувствовать это, приятно убедиться еще раз, что простая жизнь оказалась
сильнее мудрых книг, поглощенных братом.
Снова заговорила Айно, покуривая папиросу, сидя в свободной позе.
- Это - очень сытые мысли, мысли сильных людей. Я люблю сильные люди,
да! Которые не могут жить сами собой, те умирают, как лишний сучок на
дерево; которые умеют питаться солнцем - живут и делают всегда хорошо,
как надобно делать всё. Надобно очень много работать и накоплять, чтобы
у всех было всё. Мы живем, как экспедиция в незнакомый край, где никто
не был. Слабые люди очень дорого стоят и мешают. Когда у вас две мысли,
- одна лишняя и вредная. У русских - десять мысли и все - не крепки. Птичий
двор в головах, - так я думаю.
Она тихонько засмеялась. А потом, не сумев скрыть зевок, сказала:
- Мне спать.
Клим тоже ушел, сославшись на усталость и желая наедине обдумать брата.
Но, придя в свою комнату, он быстро разделся, лег и тотчас уснул.
Утром, за кофе, он спросил брата:
- Ты знаешь, что Кутузов арестован?
- Опять? Когда? - очень тревожно воскликнул Дмитрий, но, выслушав объяснение
Клима, широко улыбнулся:
- Он - в Нижнем, под надзором. Я же с ним все время переписывался. Замечательный
человек Степан, - вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом. И, помолчав,
добавил:
- Айно вчера неплохо говорила о сильных.
- В духе страны, - авторитетно заметил Клим.
- Хорошая баба.
- А что ты знаешь о Марине?
- Ничего не знаю, - очень равнодушно откликнулся Дмитрий. – Сначала переписывался
с нею, потом оборвалось. Она что-то о боге задумалась одно время, да,
знаешь, книжно как-то. Там поморы о боге рассуждают - заслушаешься.
Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды.
- Я, брат, едва не женился там на одной.
- Ссыльная?
- Поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая
семья. Три брата, две сестры. Неласково дергая бороду, он вздохнул:
- Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой. Укрепиться.
И к женщине тянет весьма сильно. Женщины там чудовищные...
Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала:
- Вас хочет один человек, его - сюда?
- Меня? - удивился Клим, вставая.
- Вас, вас, - дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую
вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек.
- Вы - Клим Самгин? - спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая
комнату, Самгина, осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил:
- А это кто?
- Дмитрий Самгин, брат мой.
- Ага-а! - удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах
бумажный шарик. - Это от Сомовой. Осторожно развертывайте, бумага тонкая.
Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, развертывая бумажку, услыхал
тихий его вопрос:
- Давно из ссылки?
Клим прочитал: "Это наш земляк, Платон Долганов, он даст тебе кое-что,
привези. Л.".
Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими
словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении
запутать его в ее петли, затянуть в "деятельность". Он стоял
у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил
ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел
вид существа, явившегося откуда-то "из мрака забвения".
На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение
неудовольствия; она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно
поглощаемый Дмитрием.
- Вы пьете кофе? - ласково спросила она Долганова.
- Обязательно! - сказал он и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянув
их, преградил, как шлагбаумом, дорогу Айно к столу. Самгин даже вздрогнул,
ему показалось, что Долганов сделал это из озорства, но, когда Айно, -
это уж явно нарочно! - подобрав юбку, перешагнула через ноги ниже колен,
Долганов одобрительно сказал:
- Ловко! Вы - извините, так устал, что хоть под стол лечь.
- Не надо под стол, - посоветовала Айно тем тоном, каким она, вероятно,
говорила с детьми.
- Финка? - спросил Долганов, измеряя ее глазами, она ответила ласковым
кивком головы, тогда гость, тоже кивнув, сказал:
- Это - видно.
Клим Самгин прервал диалог, подойдя к Долганову вплоть, он сердито осведомился:
- Вам известно содержание записки?
- Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал, впрочем, она, наверное,
уже знает это.
Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан кофе, молча подвинул его
хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал,
что он хочет проститься и уйти, но Долганов подошел к стене, постучал
пальцами по деревянной обшивке и - одобрил:
- Практично. Это - какое дерево?
- Клен, - торопливо ответил Дмитрий.
- Нет, - сказала хозяйка.
- Ну, все равно, - махнул рукою Долганов и, распахнув полы сюртука, снова
сел, поглаживая ноги, а женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая
сквозь смех:
- Зачем же... ах, если все равно, - зачем спрашивать?
Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался
смехом, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию:
- Смешная!
И, подсунув ладони под ляжки себе, обратился к Айно.
- Конечно - глупо! Да ведь мало ли глупостей говоришь. И вы тоже ведь
говорите.
Это еще более рассмешило женщину, но Долганов, уже не обращая на нее внимания,
смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует
его, смотрел и рассказывал:
- У меня - ревматизм, адово ноют ноги. Сидел совершенно зря одиннадцать
месяцев в тюрьме. Сыро там, надоело!
Смешная сцена не убавила опасений Клима, что этот человек скажет или
сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов, не понравился
ему сразу, как только вошел, а особенно с той минуты, когда он подсунул
под себя руки, это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно
насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чудачество - ставка
на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо,
его узкие плечи, облекал старенький, измятый сюртук, под сюртуком синяя
рубаха-косоворотка, на длинных ногах - серые новенькие брюки из какой-то
жесткой материи. Лицо тоже измятое, серое, с негустой порослью волос лубочного
цвета, на подбородке волосы обещали вырасти острой бородою; по углам очень
красивого рта свешивались - и портили рот - длинные, жидкие усы. Но старообразное
и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые,
золотистого цвета.
"Девичьи, глупые глаза", - определил Самгин, слушая гибкий басок
Долганова.
- Развлекался только ссорами с начальником, лентяишко такой, пьяница,
изображает чудовище, шляется по камерам, "иский, кого поглотити",
скандалит, как в трактире. Я его дразню: "Перестаньте бурбошку играть,
это у вас от скуки, а в сущности, вы не плохой парень, хотя - пехота".
А он - сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит:
"Я вам не парень, я втрое старше вас!" Долго мы состязались,
потом он говорит:
"Вы, Долганов, престиж мой подрываете, какого чорта!" Ну, посмеялись
мы; конечно, тихонько смеемся, чтобы престиж не пострадал. Уговорил я
его переплетную мастерскую наладить...
Айно, облокотясь на стол, слушала приоткрыв рот, с явным недоумением
на лице. Она была в черном платье, с большими, точно луковки, пуговицами
на груди, подпоясана светлозеленым кушаком, концы его лежали на полу.
"Она не верит ни одному его слову", - решил Клим, а Долганов
неожиданно спросил Дмитрия:
- Народник?
- Марксист, - ответил Самгин старший, улыбаясь.
- Да ну-у? - удивился Долганов и вздохнул: - Не похоже. Такое русское
лицо и - вообще... Марксист - он чистенький, лощеный и на все смотрит
с немецкой философской колокольни, от Гегеля, который говорил: "Люди
и русские", от Момзена, возглашавшего: "Колотите славян по башкам".
Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял: этот чудак
настраивается к бою; он уже обеими руками забросил волосы на затылок,
и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове
неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки кованого гвоздя.
Постепенно впадая в тон проповедника, он обругал Трейчке, Бисмарка, еще
каких-то уже незнакомых Климу немцев, чувствовалось, что он привык и умеет
ораторствовать.
- Весьма сожалею, что Николай Михайловский и вообще наши "страха
ради иудейска" стесняются признать духовную связь народничества со
славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы - баре, Радищев, Герцен,
Бакунин - да мало ли? - тоже баре. А ведь именно славянофилы осветили
подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуется и понимается
не сквозь цифры земско-статистических сборников, а сквозь фольклор, -
Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев, вот кто учит слышать душу народа!
Лицо Долганова морщилось, хотело быть сердитым, но глаза мешали этому,
сияя все вдохновенней и ласковее. И чем более сердитые слова выговаривал
он своим гибким баском, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться
не способен. В словах он не стеснялся, марксизм назвал "еврейско-немецким
учением о барышах", Дмитрий слушал его нахмурясь, вопросительно посматривая
на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айно
блаженно улыбалась, было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то,
и это вынудило Клима сказать небрежным тоном:
- Старо все это и, знаете, несколько газетно. Долганов оскалил крупные,
желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы
и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле,
потирая колени ладонями:
- Мысль, что "сознание определяется бытием", - вреднейшая мысль,
она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия
и не может объяснить, какой же силой покорный раб действительности преображает
ее? А ведь действительность никогда не была - и не будет! - лучше человека,
он же всегда был и будет не удовлетворен ею.
- Вы - семинарист? - спросил Клим неожиданно для себя и чтоб сдержать
злость; злило его то, что человек этот говорит и, очевидно, может сказать
еще много родственного тайным симпатиям его, Клима Самгина.
- Да, семинарист! Ну, - и что же? - воскликнул Долганов и, взмахнув руками,
подскочил на стуле, как будто взбросил себя на воздух взмахом рук.
"Какая-то схема человека или детский рисунок, - отметил Самгин.
- Странно, что Дмитрий не возражает ему".
- Семинарист, - повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так,
что обнажились раковины ушей, совершение схожих "с вопросительными
знаками. - Затем, я - человек, убежденный, что мир осваивается воображением,
а не размышлением. Человек прежде всего - художник. Размышление только
вводит порядок в его опыт, да!
- Это - идеализм, - неохотно сказал Дмитрий.
- Ну, да! А - что же? А чем иным, как не идеализмом очеловечите вы зоологические
инстинкты? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической
борьбы, и народ не пойдет зa вами, за вульгарным вашим материализмом,
потому что он чувствует ценность политической свободы и потому что он
хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти и по духу, а вы - чужие!
Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его;
спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь:
- В сущности, вы, марксята, духовные дети нигилистов, но вам уже хочется
верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей,
и выбрали из всех верований самое простенькое.
Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной
фигурой и старообразным лицом.
- Путаники, - вздохнул он, застегивая сюртук. - А все-таки в конце концов
пойдете с нами. Аполитизм ваш ненадолго.
Он протянул руку Айно.
- Куда вы идете? - спросила она.
- В Торнео. Ведь вы знаете, - усмехаясь, ответил он. Айно, покачивая толовой,
осмотрела его с головы до дог, он беззаботно махнул рукой.
- Ничего! Меня оденут, остригут...
Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнула ее.
- Счастливую дорогу!
- Ну, прощайте, братья, - сказал Долганов.
Он вышел вместе с Айно. Самгины переглянулись, каждый ожидал, что скажет
другой. Дмитрий подошел к стене, остановился пред картиной и сказал тихо:
- Значит, он - за границу.
- Странная фигура, - заметил Клим, протирая очки.
- Да, - отозвался брат, не глядя на него. - Но я подобных видел. У народников
особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали
его, тогда как меня... не очень! Странное и стеснительное у меня чувство,
- пробормотал он. - Как будто я видел этого парня в Устюге, накануне моего
отъезда. Туда трое присланы, и он между ними. Удивительно похож.
Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату:
- Слушай, ужасно неудобно это... просто даже нехорошо, что отец ничего
не оставил тебе...
- Чепуха! - сказал Клим. - Я не хочу говорить об этом.
- Нет, подожди! - продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя
руками. - Там - четыре, то есть пять тысяч. Возьми половину, а? Я должен
бы отказаться от этих денег в пользу Айно... да, видишь ли, мне хочется
за границу, надобно поучиться...
Клим строго остановил его:
- Айно получила, наверное, вполне достаточно, чтоб воспитать детей и хорошо
жить, а мне ничего не нужно.
- Послушай...
- Больше я не стану говорить на эту тему, - сказал Клим, отходя к открытому
во двор окну. - А тебе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться...
Он говорил долго, солидно и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием
отца. Он не почувствовал этого, когда Айно сказала, что отец ничего не
оставил ему, а вот теперь - обижен несправедливостью и чем более говорит,
тем более едкой становится обида.
"Фу, как глупо!" - мысленно упрекнул он себя, но это не помогло,
и явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С
этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал:
- Законы - или беззакония - симпатий и антипатий... - Вошла Айно и тотчас
же заговорила очень живо:
- Вот такой - этот настоящий русский, больше, чем вы обе, - я так думаю.
Вы помните "Золотое сердце" Златовратского! Вот! Он удивительно
говорил о начальнике в тюрьме, да! О, этот может много делать! Ему будут
слушать, верить, будут любить люди. Он может... как говорят? - может утешивать.
Так? Он - хороший поп!
- Вот именно, - сказал Клим. - Утешитель.
- Да, да, я так думаю! Правда? - спросила она, пытливо глядя в лицо его,
и вдруг, погрозив пальцем: - Вы - строгий! - И обратилась к нахмуренному
Дмитрию: - Очень трудный язык, требует тонкий слух: тешу, чешу, потесать
- потешать, утесать - утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала: плотник
утешает дерево топором. И - как это: плотник? Это значит - тельник, -
ну, да! - Она снова пошла к младшему Самгину. - Отчего вы были с ним нелюбезны?
- Мне подумалось, - сказал Клим, - что вам этот визит...
- О, нет! - прервала она. - Я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать
куда нужно. Ему всегда писали: придет человек, и человек приходил.
- Ну, я пойду в полицию - представляться, - сказал Дмитрий. Айно ушла
с ним заказывать памятник на могилу.
Бывали минуты, когда Клим Самгин рассматривал себя как иллюстрированную
книгу, картинки которой были одноцветны, разнообразно неприятны, а объяснения
к ним, не удовлетворяя, будили грустное чувство сиротства. Такие минуты
он пережил, сидя в своей комнате, в темном уголке и тишине.
Он был крайне смущен внезапно вспыхнувшей обидой на отца, брата и чувствовал,
что обида распространяется и на Айно. Он пытался посмотреть на себя, обидевшегося,
как на человека незнакомого и стесняющего, пытался отнестись к обиде иронически.
"Мелочно это и глупо", - думал он и думал, что две-три тысячи
рублей были бы не лишними для него и что он тоже мог бы поехать за границу.
Обида ощущалась, как опухоль, где-то в горле и все твердела.
"Разумеется, суть не в деньгах..."
Вспомнилось, как назойливо возился с ним, как его отягощала любовь отца,
как равнодушно и отец и мать относились к Дмитрию. Он даже вообразил мягкую,
не тяжелую руку отца на голове своей, на шее и встряхнул головой. Вспомнилось,
как отец и брат плакали в саду якобы о "Русских женщинах" Некрасова.
Возникали в памяти бессмысленные, серые, как пепел, холодные слова:
"Семья - основа государства. Кровное родство. Уже лет десяти я чувствовал
отца чужим... то есть не чужим, а - человеком, который мешает мне. Играет
мною", - размышлял Самгин, не совсем ясно понимая: себя оправдывает
он или отца?
Покручивая бородку, он осматривал стены комнаты, выкрашенные в неопределенный,
тусклый тон; против него на стене висел этюд маслом, написанный резко,
сильными мазками: сочно синее небо и зеленоватая волна, пенясь, опрокидывается
на оранжевый песок.
"В сущности, уют этих комнат холоден и жестковат. В Москве, у Варвары,
теплее, мягче. Надобно ехать домой. Сегодня же. А то они поднимут разговор
о завещании. Великодушный разговор, конечно. Да, домой..."
Он выпрямился, поправил очки. Потом представил мать, с лиловым, напудренным
лицом, обиженную тем, что постарела раньше, чем перестала чувствовать
себя женщиной, Варавку, круглого, как бочка...
"Поживу в Петербурге с неделю. Потом еще куда-нибудь съезжу. А этим
скажу: получил телеграмму. Айно узнает, что телеграммы не было. Ну, и
пусть знает".
Но затем он решил сказать, что получил телеграмму на улице, когда выходил
из дома. И пошел гулять, а за обедом объявил, что уезжает. Он видел, что
Дмитрий поверил ему, а хозяйка, нахмурясь, заговорила о завещании.
- Не вижу никаких оснований изменять волю отца, - решительно ответил он.
Айно молча пожала плечами.
После обеда в комнате Клима у стены столбом стоял Дмитрий, шевелил пальцами
в карманах брюк и, глядя под ноги себе, неумело пытался выяснить что-то.
- Знаешь, это - дьявольски неловко. Ты верно сказал о беззаконии симпатий.
Дурацкая позиция у меня.
Клим чувствовал, что брат искренно и глубоко смущен.
"Тем хуже для него".
Айно простилась с Климом сухо и отчужденно; Дмитрий хотел проводить брата
на вокзал, но зацепился ногою за медную бляшку чемодана и разорвал брюки.
- О, - сказала Айно. - Как вы пойдете? Есть у вас другие брюки? Нет? Вам
нельзя идти на вокзал!
Самгин младший был доволен, что брат не может проводить его, но подумал:
"Она не хочет этого. Хитрая баба. Ловко устроилась".
Уезжая, он чувствовал себя в мелких мыслях, но находил, что эти мысли,
навязанные ему извне, насильно и вообще всегда не достойные его, на сей
раз обещают сложиться в какое-то определенное решение. Но, так как всякое
решение есть самоограничение, Клим не спешил выяснить его.
В Петербурге он узнал, что Марина с теткой уехали в Гапсаль. Он прожил
в столице несколько суток, остро испытывая раздражающую неустроенность
жизни. Днем по улицам летала пыль строительных работ, на Невском рабочие
расковыривали торцы мостовой, наполняя город запахом гнилого дерева; весь
город казался вспотевшим. Белые ночи возмутили Самгина своей нелепостью
и угрозой сделать нормального человека неврастеником; было похоже, что
в воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состояния
прозрачной и раздражающе светящейся пыли.
Ночные женщины кошмарно навязчивы, фантастичны, каждая из них обещает
наградить прогрессивным параличом, а одна - высокая, тощая, в невероятной
шляпе, из-под которой торчал большой, мертвенно серый нос, - долго шла
рядом с Климом, нашептывая:
- Идешь, студент? Ну? Коллега? Потом она стала мурлыкать в ухо ему:
Милый мой,
Пойдем со мной...
А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели,
не спеша и какой-то размышляющей походкой перешла мостовую и скрылась
за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на
царь-колокол, а Петербург не похож на русский город.
"Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к
простым, нормальным людям", - думал Клим Самгин, сидя в вагоне, по
дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение.
Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал
к Варваре, не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтоб строго внушить
Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов,
человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда
вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами.
Необъятная и недоступная воздействию времени Анфимьевна, встретив его
с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с
негодованием, что Варвара уехала в Кострому.
- Актеришки увезли ее играть, а - чего там играть? Деньгами ее играть
будут, вот она, игра!
И, вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала,
осудительно причмокивая:
- Женился бы ты на ней, Клим Иваныч, что уж, право! Тянешь, тянешь, а
девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное
дело!
С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая
маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло,
она горевала:
- Тоже вот и Любаша: уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж
я не знаю как! Опять дома не ночевала, а намедни, прихожу я утром, будить
ее - сидит в кресле, спит, один башмак снят, а другой и снять не успела,
как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то все
нет да нет! Вчуже обидно, право: девушка сочная, как лимончик...
Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно
сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого
жилья, - все это настроило Самгина тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову,
няньку - бабушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей.
"Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не
написал, как значительна их роль в деле воспитания русской души, а может
быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими,
и более здоровое, - задумался он. - "Коня на скаку остановит, в горящую
избу войдет", - это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь
вот так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь
от пыли, сора".
Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности
окружающему, он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно
подумал:
"Да, здесь потеплее Финляндии!"
Просмотрел несколько номеров "Русских ведомостей", незаметно
уснул на диване и был разбужен Любашей:
- Что ты спишь среди дня! - кричала она кольцовским стихом, дергая его
за руку.
Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в
пыльных ботинках, ее лицо празднично сияло, она обмахивалась платком,
отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький
галстук и говорила ликующим голосом:
- Клим, голубчик! Знаешь, - вышел "Манифест Российской социал-демократической
партии". Замечательно написан! Нет, ты подумай – у нас - партия!
- У кого это, у нас? - спросил Клим, надевая очки.
- Ну, господи! У нас, в России! Ты пойми: ведь это значит – конец спорам
и дрязгам, каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано
о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками
- понимаешь?
От восторга она потела все обильнее. Сорвав галстук, расстегнула ворот
кофточки:
- Задыхаюсь!
И, сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать "Манифест",
а Самгин вдруг вспомнил, что, когда в селе поднимали колокол, он, удрученно
идя на дачу, заметил молодую растрепанную бабу или девицу с лицом полуумной,
стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок:
"Господи! Дай тебе господи! Пошли тебе господи!" Найдя в Любаше
сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость,
похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала:
- Не правда ли? Главное: хорошие люди перестанут злиться друг на друга,
и - все за живое дело!
Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее.
- О "Манифесте" ты мне расскажешь после, а теперь...
- Варвара? - спросила она. - Представь, поехала играть; "Хочу, говорит,
проверить себя..."
- Я - не о ней. Актриса она - не более, чем ты и всякая другая женщина...
Любаша показала ему язык.
- Дурачок ты, а не скептик! Она - от тоски по тебе, а ты... какой жестокосердный
Ловелас! И - чего ты зазнаешься, не понимаю? А знаешь, Лида отправилась
- тоже с компанией - в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась
с каким-то Берендеевым, он исследует сектантство. Она тоже - от скуки
все это. Антисоциальная натура, вот что... Анфимьевна, мать родная, дайте
чего-нибудь холодного!
- Не дам холодного, - сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стиранного
белья. - Сначала поесть надо, после - молока принесу, со льда...
Самгин не находил минуты, чтобы сделать выговор, да уже и не очень хотел
этого, забавное возбуждение Любаши несколько примиряло с нею.
- Да, - забыла сказать, - снова обратилась она к Самгину, - Маракуев получил
год "Крестов". Ипатьевский признан душевнобольным и выслан на
родину, в Дмитров, рабочие - сидят, за исключением Сапожникова, о котором
есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину, - Одинцов.
Вскочив со стула, она пошла к двери.
- Переоденусь, пока не растаяла. Но в дверях круто повернулась и, схватясь
за голову, пропела:
- Ой, Климуша, с каким я марксистом познакомила-ась! Это, я тебе скажу...
ух! Голос - бархатный. И, понимаешь, точно корабль плавает... эдакий -
на всех парусах! И - до того все в нем определенно... Ты смеешься? Глупо.
Я тебе скажу: такие, как он, делают историю. Он... на Желябова похож,
да!
Исчезая, она еще раз повторила через плечо:
- Да!
Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. "Манифест"
возбуждал в нем острое любопытство.
"Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надобно сходить
к Прейсу".
И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это объясняется,
конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного
марксиста.
"Все-таки я ее проберу".
Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь полотенцем, бросила на
стол два письма:
- Давно уже получены.
В одном письме мать доказывала необходимость съездить в Финляндию. Климу
показалось, что письмо написано в тоне обиды на отца за то, что он болен,
и, в то же время, с полным убеждением, что отец должен был заболеть опасно.
В конце письма одна фраза заставила Клима усмехнуться:
"Я не думаю, что Иван Акимович оставил завещание, это было бы не
в его характере. Но, если б ты захотел - от своего имени и от имени брата
- ознакомиться с имущественным положением И. А., Тимофей Степанович рекомендует
тебе хорошего адвоката". Дальше следовал адрес известного цивилиста.
Второе письмо было существеннее.
"Пишу в М., так как ты все еще не прислал адрес гостиницы в Выборге,
где остановился. Я очень расстроена. На долю Елизаветы Львовны выпала
роль героини крупного скандала, который, вероятно, кончится судом и тюрьмою
для известного тебе Инокова. Он взбесился и у нас, на дворе, изувечил
регента архиерейского хора, который помогал Лизе в ее работе по "Обществу
любителей хорового пения" и, кажется, немножко ухаживал за нею. Она
не отрицает этого, говоря, что нет мужчины, который не ухаживал бы за
женщинами. Она, конечно, очень взволнована, но из самолюбия скрывает это.
В дело вмешался владыка Иоасаф, и это может иметь для Инокова роковое
значение. Он правдив до глупости, не хочет, чтоб его защищали, и утверждает,
что регент запугивал Лизу угрозами донести на нее, она будто бы говорила
хористам, среди которых много приказчиков и ремесленников, что-то политическое.
Но, зная Лизу, я, конечно, не допускаю ничего подобного. Тут всего хуже
то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет
меня: как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то
ненормальное любопытство к людям, очень опасное в наше время. Ты совершенно
правильно писал, что время становится все более тревожным и что вполне
естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно".
О порядке и необходимости защищать его было написано еще много, но Самгин
не успел дочитать письма, - в прихожей кто-то закашлял, плюнул, и на пороге
явился маленький человечек:
- Можно?
- Пожалуйста.
- Сомова дома?
- Я сию минуту, - крикнула Любаша, приоткрыв свою дверь.
Человек передвинулся в полосу света из окна и пошел на Самгина, глядя
в лицо его так требовательно, что Самгин встал и назвал свою фамилию,
сообразив:
"Очевидно - "объясняющий господин".
- Так, - сказал гость, положил на ладонь Клима сухую, холодную руку и,
ожидая пожатия, спросил: - Вы не родственник ли Якову Акимовичу?
- Это дядя мой.
- Ага. Я с ним сидел в саратовской тюрьме.
- Помер он.
- Совершенно верно. При мне.
Человек сел на стул против Клима. Несколько секунд посмотрев на него
смущающим взглядом мышиных глаз, он пересел на диван и снова стал присматриваться,
как художник к натуре, с которой он хочет писать портрет. Был он ниже
среднего роста, очень худенький, в блузе цвета осенних туч и похожей на
блузу Льва Толстого; он обладал лицом подростка, у которого преждевременно
вырос седоватый клинушек бороды; его черненькие глазки неприятно всасывали
Клима, лицо украшал остренький нос и почти безгубый ротик, прикрытый белой
щетиной негустых усов.
- Здешнего университета?
- Да.
- Юрист, - утвердительно сказал человек, снова пересел к столу, вынул
из кармана кожаный мешочек, книжку папиросной бумаги и, фабрикуя папиросу,
сообщил: - Юриста от естественника сразу отличишь.
"Каждый из них так или иначе подчеркивает себя", - сердито
подумал Самгин, хотя и видел, что в данном случае человек подчеркнут самой
природой. В столовую вкатилась Любаша, вся в белом, точно одетая к причастью,
но в ночных туфлях на босую ногу.
- Ну, что, дядя Миша?
- Не согласен, - сказал тот, отрицательно покачав головой.
- Ах, трусишка! - воскликнула Любаша, жестоко дернув себя за косу, сморщила
лицо от боли и спросила:
- Значит - будет так, как предлагали вы?
- Именно, - тихо, но твердо ответил дядя Миша и с наслаждением пустил
в потолок длинную струю дыма, а Любаша обратилась к Самгину;
- Вот - дядя Миша хорошо знал Ипатьевского.
- Сына и отца, обоих, - поправил дядя Миша, подняв палец. - С сыном я
во Владимире в тюрьме сидел. Умный был паренек, но - нетерпим и заносчив.
Философствовал излишне... как все семинаристы. Отец же обыкновенный неудачник
духовного звания и алкоголик. Такие, как он, на конце дней становятся
странниками, бродягами по монастырям, питаются от богобоязненных купчих
и сеют в народе различную ерунду.
Голосок у дяди Миши был тихий, но неистощимый и светленький, как подземный
ключ, бесконечные годы источающий холодную и чистую воду.
Нетерпеливо притопывая ногою, Сомова спросила:
- Прочитали "Манифест"?
- Прочитал и передал по назначению.
- Ну, и - что?
- Событие весьма крупное, - ответил дядя Миша, но тоненькие губы его съежились
так, как будто он хотел свистнуть. - Может быть, даже историческое событие...
- Конечно!..
- Жаль, написана бумажка щеголевато и слишком премудро для рабочего народа.
И затем - модное преклонение пред экономической наукой. Разумеется - наука
есть наука, но следует помнить, что Томас Гоббэс сказал: наука - знание
условное, безусловное же знание дается чувством. Переполнение головы плохо
влияет на сердце. Михайловский очень хорошо доказал это на Герберте Спенсере...
Любаша бесцеремонно прервала эту речь, предложив дяде Мише покушать.
Он молча согласился, сел к столу, взял кусок ржаного хлеба, налил стакан
молока, но затем встал и пошел по комнате, отыскивая, куда сунуть окурок
папиросы. Эти поиски тотчас упростили его в глазах Самгина, он уже не
мало видел людей, жизнь которых стесняют окурки и разные иные мелочи,
стесняют, разоблачая в них обыкновенное человечье и будничное.
В столовую влез как-то боком, точно в трамвай, человек среднего роста,
плотный, чернобородый, с влажными глазами и недовольным лицом.
- Пимен Гусаров, - назвала его Любаша, он дважды кивнул головой и, положив
пред Сомовой пачку журналов, сказал металлическим голосом:
- Страницы указаны на обложках. Он тоже сразу заговорил о "Манифесте",
но - сердито.
- Давно пора. У нас всё разговаривают о том, как надобно думать, тогда
как говорить надо о том, что следует делать.
Дядя Миша согласно наклонил голову, но это не удовлетворило Гусарова,
он продолжал все так же сердито;
- Либеральные старички в журналах все еще стонут и шепчут: так жить нельзя,
а наше поколение уже решило вопрос, как и для чего надо жить.
- Вы - марксист? - спросил Клим. - Гусаров взглянул на него одним глазом
и отвернулся, уставясь в тарелку.
- Я - смешанных воззрений. Роль экономического фактора - признаю, но и
роль личности в истории - тоже. Потом - материализм: как его ни толкуйте,
а это учение пессимистическое, революции же всегда делались оптимистами.
Без социального идеализма, без пафоса любви к людям революции не создашь,
а пафосом материализма будет цинизм.
Говорил он мрачно, решительно, очень ударяя на о и переводя угрюмые
глаза с дяди Миши на Сомову, с нее на Клима. Клим подумал, что возражать
этому человеку не следует, он, пожалуй, начнет ругаться, но все-таки попробовал
осторожно спросить его по поводу цинизма; Гусаров грубовато буркнул:
- Эристикой не занимаюсь. Я изъявил мои взгляды, а вы - как хотите. Прежде
всего надо самодержавие уничтожить, а там - разберемся.
Любаша смотрела на него неласковыми глазами; дядя Миша, одобрительно
покачивая редковолосой, сивой головой, чистил шпилькой мундштук, Гусаров
начал быстро кушать малину с молоком, но морщился так, как будто глотал
уксус. Губы у него были яркие, кожа лица и шеи бескровно белая и как бы
напудренная там, где она не заросла густым волосом, блестевшим, как перо
грача. Костюм табачного цвета был узок ему, двигался Гусаров осторожно,
его туго накрахмаленная рубашка поскрипывала, он совал руку за пазуху,
дергал там подтяжки, и они громко щелкали по крахмалу. Скушав две тарелки
малины, он вытер губы, бороду платком, встал, взглянул в зеркало и ушел
так же неожиданно, как явился.
- Добротный парень, - похвалил его дядя Миша, а у Самгина осталось впечатление,
что Гусаров только что приехал откуда-то издалека, по важному делу, может
быть, венчаться с любимой девушкой или ловить убежавшую жену, - приехал,
зашел в отделение, где хранят багаж, бросил его и помчался к своему счастью
или к драме своей.
Вскоре ушел и дядя Миша, крепко пожав руку Самгина, благосклонно улыбнувшись;
в прихожей он сказал Любаше:
- Ну, ну - не надо торопиться! Проводив его, Сомова начала рассказывать:
- Кто такой дядя Миша, ты, конечно, знаешь... Самгин не знал, но почему-то
пошевелил бровями так, как будто о дяде Мише излишне говорить; Гусаров
оказался блудным сыном богатого подрядчика малярных и кровельных работ,
от отца ушел еще будучи в шестом классе гимназии, учился в казанском институте
ветеринарии, был изгнан со второго курса, служил приказчиком в богатом
поместье Тамбовской губернии, матросом на волжских пароходах, а теперь
- без работы, но ему уже обещано место табельщика на заводе.
- Говорят, - он замечательный пропагандист. Но мне не нравится, он - груб,
самолюбив и - ты обратил внимание, какие у него широкие зубы? Точно клавиши
гармоники.
- Он, кажется, глуп? - спросил Самгин.
- Нет, это у него от самолюбия, - объяснила Любаша. - Но кто симпатичен,
так это Долганов, - понравился тебе? Ой, Клим, сколько новых людей! Жизнь...
Клим досказал:
- Выбрасывает негодных, ненужных, и вот они плутают из дома в дом...
Это было его предисловие к выговору Любаше, но она, взглянув на часы,
испуганно схватилась за голову.
- Ой, опаздываю! Мне - в Петровский парк, - бегу, бегу!
И убежала, оставив в дверях свалившуюся с ноги туфлю.
Самгин походил по комнате в мелких мыслях о матери, Инокове, Спивак, но
все это было далеко от него, неинтересно, тревожил вопрос: что это за
"Манифест"? Неужели возможна серьезная политическая партия,
которая способна будет организовать интеллигенцию, взять в свои руки студенческое
и рабочее движение и отмести прочь болтунов, истериков, анархистов? В
партии культурных людей и он нашел бы место себе. Он отправился к Прейсу,
но там Казя весело сообщила ему, что Борис Викторович уехал за границу.
Самгин зашел в ресторан, поел, затем часа два просидел в опереточном театре,
где было скучно и бездарно. Домой он возвратился около полуночи. Анфимьевна
сказала ему, что Любаша недавно пришла, но уже спит. Он тоже лег спать
и во сне увидал себя сидящим на эстраде, в темном и пустом зале, но из
темной пустоты кто-то внушительно кричит ему:
- Извольте встать!
Встать он не мог, на нем какое-то широкое, тяжелое одеяние; тогда голос
налетел на него, как ветер, встряхнул и дунул прямо в ухо:
- Встаньте!
Самгин проснулся, вскочил.
- Ваша фамилия? - спросил его жандармский офицер и, отступив от кровати
на шаг, встал рядом с человеком в судейском мундире; сбоку от них стоял
молодой солдат, подняв руку со свечой без подсвечника, освещая лицо Клима;
дверь в столовую закрывала фигура другого жандарма.
- Ваша фамилия? - строго повторил офицер, молодой, с лицом очень бледным
и сверкающими глазами. Самгин нащупал очки и, вздохнув, назвал себя.
- Как? - недоверчиво спросил офицер и потребовал документы; Клим, взяв
тужурку, долго не мог найти кармана, наконец - нашел, вынул из кармана
все, что было в нем, и молча подал жандарму.
- Свети! - приказал тот солдату, развертывая бумаги. В столовой зажгли
лампу, и чей-то тихий голос сказал:
- Сюда.
Потом звонко и дерзко спросила Любаша:
- Что это значит?
- Обыск, - ответил тихий голос и тоже спросил: - Вы – Варвара Антропова?
- Я - Любовь Сомова.
- А где же хозяйка квартиры?
- И дома, - хрипло произнес кто-то.
- Что?
- И домохозяйка. Как я докладывал - уехала в Кострому.
- Кто еще живет в этой квартире?
- Никого, - сердито ответила Любаша. Самгин, одеваясь, заметил, что офицер
и чиновник переглянулись, затем офицер, хлопнув по своей ладони бумагами
Клима, спросил:
- Давно квартируете здесь?
- Остановился на сутки проездом из Финляндии. Офицер наклонился к нему:
- Из... откуда?
- Из Выборга. Был и в других городах. Чиновник усмехнулся и, покручивая
усы, вышел в столовую, офицер, отступив в сторону, указал пальцем в затылок
его и предложил Климу:
- Пожалуйте.
В столовой, у стола, сидел другой офицер, небольшого роста, с темным
лицом, остроносый, лысоватый, в седой щетине на черепе и верхней губе,
человек очень пехотного вида; мундир его вздулся на спине горбом, воротник
наехал на затылок. Он перелистывал тетрадки и, когда вошел Клим, спросил,
взглянув на него плоскими глазами:
- Это что-то театральное?
И, снова наклонясь над столом, сказал сам себе:
- Лекции.
Он взглянул на Любашу, сидевшую в углу дивана с надутым и обиженным
лицом. Адъютант положил пред ним бумаги Клима, наклонился и несколько
секунд шептал в серое ухо. Начальник, остановив его движением руки, спросил
Клима:
- Вы из Финляндии? Когда?
- Сегодня утром.
- А зачем ездили туда?
- Хоронить отца.
Офицер встал, кашлянул и пошел в комнату, где спал Самгин, адъютант
и чиновник последовали за ним, чиновник шел сзади, выдергивая из усов
ехидные улыбочки и гримасы. Они плотно прикрыли за собою дверь, а Самгин
подумал:
"Вот и я буду принужден сопровождать жандармов при обысках и брезгливо
улыбаться".
Он понимал, что обыск не касается его, чувствовал себя спокойно, полусонно.
У двери в прихожую сидел полицейский чиновник, поставив шашку между ног
и сложив на эфесе очень красные кисти рук, дверь закупоривали двое неподвижных
понятых. В комнатах, позванивая шпорами, рылись жандармы, передвигая мебель,
снимая рамки со стен; во всем этом для Самгина не было ничего нового.
- Чорт знает что такое! - вдруг вскричала Сомова;
он отошел подальше от нее, сел на стул, а она потребовала громко:
- Полицейский, скажите, чтобы мне принесли пить! Не шевелясь, полицейский
хрипло приказал кому-то за дверью:
- Скажи, Петров.
Через минуту вошла с графином воды на подносе Анфимьевна; Сомова, наливая
воду в стакан, высоко подняла графин, и Клим слышал, как она что-то шепчет
сквозь бульканье воды. Он испуганно оглянулся.
"Наскандалит она..."
Из двери выглянул адъютант, спросил:
- Телефон есть в квартире?
- Ищите, - ответила Любаша, прежде чем один из жандармов успел сказать:
- Никак нет, ваше благородие! Анфимьевна ушла, в дверях слепо наткнулась
на понятых и проворчала:
- Не видите - с посудой иду!
А посуды в руках ее не было.
К удивлению Самгина все это кончилось для него не так, как он ожидал.
Седой жандарм и товарищ прокурора вышли в столовую с видом людей, которые
поссорились; адъютант сел к столу и начал писать, судейский, остановясь
у окна, повернулся спиною ко всему, что происходило в комнате. Но седой
подошел к Любаше и негромко сказал:
- Прошу вас одеться.
Она встала, пошла в свою комнату, шагая слишком твердо, жандарм посмотрел
вслед ей и обратился к Самгину:
- И вас прошу.
Часа через полтора Самгин шагал по улице, следуя за одним из понятых,
который покачивался впереди него, а сзади позванивал шпорами жандарм.
Небо на востоке уже предрассветно зеленело, но город еще спал, окутанный
теплой, душноватой тьмою. Самгин немножко любовался своим спокойствием,
хотя было обидно идти по пустым улицам за человеком, который, сунув руки
в карманы пальто, шагал бесшумно, как бы не касаясь земли ногами, точно
он себя нес на руках, охватив ими бедра свои.
"Вот и я привлечен к отбыванию тюремной повинности", - думал
он, чувствуя себя немножко героем и не сомневаясь, что арест этот - ошибка,
в чем его убеждало и поведение товарища прокурора. Шли переулками, в одном
из них, шагов на пять впереди Самгина, открылась дверь крыльца, на улицу
вышла женщина в широкой шляпе, сером пальто, невидимый мужчина, закрывая
дверь, сказал:
- Так уж вы не забудьте...
Женщина шагнула встречу Клима, он посторонился и, узнав в ней знакомую
Лютова, заметил, что она тоже как будто узнала его.
"Завтра будет известно, что я арестован, - подумал он не без гордости.
- С нею говорили на вы, значит, это - конспирация, а не роман".
Он очень удивился, увидав, что его привели не в полицейскую часть, как
он ожидал, а, очевидно, в жандармское управление, в маленькую комнату
полуподвального этажа: ее окно снаружи перекрещивала железная решетка,
нижние стекла упирались в кирпичи ямы, верхние показывали квадратный кусок
розоватого неба.
"Переменил среду", - подумал Самгин, усмехаясь, и, чувствуя
себя разбитым усталостью, тотчас же разделся и лег спать. Проснулся около
полудня, сообразив время по тому, как жарко в комнате. Стены ее были многократно
крашены и все-таки исчерчены царапинами стертых надписей. Стоял запах
карболовой кислоты и плесени. Его пробуждения, очевидно, ждали, щелкнула
задвижка, дверь открылась, и потертый, старый жандарм ласково предложил
ему умыться. Потом дали чаю, как в трактире: два чайника, половину французской
булки, кусок лимона и четыре куска сахара. Выпив чаю, он стал дожидаться,
когда его позовут на допрос; настроение его не падало,
но на допрос не позвали, а принесли обед из ресторана, остывший, однако
вкусный. Первый день прошел довольно быстро, второй оказался длиннее,
но короче третьего, и так, нарушая законы движения земли вокруг солнца,
дни становились всё длиннее, каждый день усиливал бессмысленную скуку,
обнажал пустоту в душе и, в пустоте, - обиду, которая хотя и возрастала
день ото дня, но побороть скуку не могла. В доме стояла монастырская тишина,
изредка за дверью позванивали шпоры, доносились ворчливые голоса, и только
один раз ухо Самгина поймало укоризненную фразу:
- Да не Оси-лин, дурак, а - Оси-нин! Не - люди... а - наш...
Только на одиннадцатый день вахмистр, обильно декорированный медалями,
открыв дверь, уничтожающим взглядом измерил Самгина и, выправив из-под
седой бороды большую золотую медаль, скомандовал:
- Пожалуйте.
Через минуту Самгин имел основание думать, что должно повториться уже
испытанное им: он сидел в кабинете у стола, лицом к свету, против него,
за столом, помещался офицер, только обстановка кабинета была не такой
домашней, как у полковника Попова, а - серьезнее, казенней. Офицер показался
Климу более молодцеватым, чем он был на обыске. Лицо у него было темное,
как бывает у белокожих северян, долго живших на юге, глаза ясные, даже
как будто веселые. Никакой особенной черты в этом лице типично военного
человека Самгин не заметил, и это очень успокоило его. Жандарм благодушно
спросил:
- Скучали?
- Немножко, - сознался Самгин. - Чему я обязан... Но, не дав ему договорить,
жандарм пожаловался на отсутствие дождей, на духоту, осведомился:
- Курите?
И вдруг, положив локти на стол, сжав пальцы горкой, спросил вполголоса:
- Ну-с, так - как же?
Самгин помолчал, но, не дождавшись объяснения вопроса, тоже спросил:
- Вы - о чем?
- О вас.
Офицер вскинул голову, вытянул ноги под стол, а руки спрятал в карманы,
на лице его явилось выражение недоумевающее. Потянув воздух носом, он
крякнул и заговорил негромко, размышляющим тоном:
- По долгу службы я ознакомился с письмами вашей почтенной родительницы,
прочитал заметки ваши - не все еще! - и, признаюсь, удивлен! Как это выходит,
что вы, человек, рассуждающий наедине с самим собою здраво и солидно,
уже второй раз попадаете в сферу действий офицеров жандармских управлений?
- Вам это известно, - ответил Самгин, улыбаясь, но тотчас же сообразил,
что ответ неосторожен, а улыбаться - не следовало.
- Факты - знаю, но - мотивы? Мотивчики-то непонятны! - сказал жандарм,
вынул руки из карманов, взял со стола ножницы и щелкнул ими.
- Вот что-с, - продолжал он, прихмурив брови, - мне известно, что некоторые
мои товарищи, имея дела со студенчеством, употребляют прием, так сказать,
отеческих внушений, соболезнуют, уговаривают и вообще сентиментальничают.
Я - не из таких, - сказал он и, держа ножницы над столом, начал отстригать
однозвучно сухие слова: - Я, по совести, делаю любимое мною дело охраны
государственного порядка, и, если я вижу, что данное лицо - враждебно
порядку, я его не щажу! Нет-с, человек – существо разумное, и, если он
заслужил наказание, я сделаю все для того, чтоб он был достойно наказан.
Иногда полезно наказать и сверх заслуг, авансом, в счет будущего. Вы понимаете?
Самгин едва удержался, чтоб не сказать - да! - и сказал:
- Я - слушаю.
Офицер снова, громче щелкнул ножницами и швырнул их на стол, а глаза
его, потеряв естественную форму, расширились, стали как будто плоскими.
- Так как же это выходит, что вы, рискуя карьерой, вращаетесь среди людей
политически неблагонадежных, антипатичных вам...
- Из моих записок вы не могли вынести этого, - торопливо сказал Самгин,
присматриваясь к жандарму.
- Чего я не мог вынести? - спросил жандарм. Клим не ответил; тонко развитое
в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе не
так страшен, каким он рисует себя.
- Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится! -
воскликнул офицер. - В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное
отношение к политиканам, и, хотя вы не называете имен, мне ведь известно,
что вы посещали кружок Маракуева...
- Вы не можете сказать, что я член этого кружка или что мои воззрения...
- Нам известно о вас многое, вероятно - все! - перебил жандарм, а Самгин,
снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что
он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно,
как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи: оно, потемнев
еще более, все сдвинулось к носу, заострилось и было бы смешным, если
б глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос:
- И этого вполне достаточно, чтоб лишить вас права прохождения университетского
курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции.
Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза
и чмокнул.
- Но власть - гуманна, не в ее намерениях увеличивать количество людей,
не умевших устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры озлобленных
личными неудачами, каковы все революционеры.
Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем:
- Вот вы пишете: "Двух станов не боец" - я не имею желания быть
даже и "случайным гостем" ни одного из них", - позиция
совершенно невозможная в наше время! Запись эта противоречит другой, где
вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием
России, любовью к ней. Любовь, как вера, без дел - мертва!
И, снова собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать:
- Нет, вам надо решить: мы или они?
"Неумен", - мельком подумал Самгин.
- Мы - это те силы России, которые создали ее международное блестящее
положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру.
В этом отеческом тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского
банка, переселенческого управления, церковноприходских школ, о росте промышленности,
требующей все более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться
в отношения работодателей и рабочих; вот оно уже сократило рабочий день,
ввело фабрично-заводскую инспекцию, в проекте больничные и страховые кассы.
- Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение
в политическое, нет-с! - горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина,
второй раз спросил: - Так - как же-с, а?
- Не понимаю вопроса, - сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма,
и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и
даже физически был приятен, такой крепкий, стремительный.
- Не понимаете? - спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими.
- А понять - просто: я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии,
решительно встать на сторону правопорядка... ну-с?
Этого Самгин не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным
или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а жандарм, разрезав
ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опираясь на них, привстал,
наклонился к Самгину, тихо говоря:
- Я предлагаю вам быть моим осведомителем... стойте, стойте! - воскликнул
он, видя, что Самгин тоже встал со стула.
- Вы меня оскорбляете, - сказал Клим очень спокойно. - В шпионы я не пойду.
- Ничего подобного я не предлагал! - обиженно воскликнул офицер. – Я понимаю,
с кем говорю. Что за мысль! Что такое шпион? При каждом посольстве есть
военный агент, вы его назовете шпионом? Поэму Мицкевича "Конрад Валленрод"
- читали? - торопливо говорил он. - Я вам не предлагаю платной службы;
я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном.
Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал
тихо и мягко:
- Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли,
- мысли, заметьте! - информаторы, необходимы не столько для борьбы против
врагов порядка, сколько из желания быть справедливыми, избегать ошибок,
безошибочно отделять овец от козлищ. В студенческом движении страдает
немало юношей случайно...
Самгин тоже сел, у него задрожали ноги, он уже чувствовал себя испуганным.
Он слышал, что жандарм говорит о "Манифесте", о том, что народники
мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться,
не имея точных сведений, насколько это слова, насколько - дело, а разобраться
нужно для охраны юношества, пылкого и романтического или безвольного,
политически малограмотного.
- Так - как же, а? - снова услыхал он вопрос, должно быть, привычный языку
жандарма.
- На это я не пойду, - ответил Самгин, спокойно, как только мог.
- Решительно?
- Да.
Офицер, улыбаясь, встал, качнул головою.
- Не стану спрашивать вас: почему, но скажу прямо: решению вашему не верю-с!
Путь, который я вам указал, - путь жертвенного служения родине, - ваш
путь. Именно: жертвенное служение, - раздельно повторил он. - Затем, -
вы свободны... в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку
о невыезде отсюда, - это ненадолго! Но я удовлетворюсь вашим словом -
не уедете?
- Разумеется, - облегченно вздохнул Клим.
- Часть ваших бумаг можете взять - вот эту! - Вы будете жить в квартире
Антроповой? Кстати: вы давно знакомы с Любовью Сомовой?
- С детства.
- Что это за человек?
- Очень... добрая девушка, - не сразу ответил Самгин.
- Гм? Ну, до свидания.
Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных
и жестких пальцев.
- Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте без страха пред словами
и с любовью к родине, - посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал
ноты искреннего доброжелательства.
По улице Самгин шел согнув шею, оглядываясь, как человек, которого ударили
по голове и он ждет еще удара. Было жарко, горячий ветер плутал по городу,
играя пылью, это напомнило Самгину дворника, который нарочно сметал пыль
под ноги партии арестантов. Прозвучало в памяти восклицание каторжника:
"Лазарь воскрес!" - и Клим подумал, что евангельские легенды
о воскресении мертвых как-то не закончены, ничего не говорят ни уму, ни
сердцу. Над крышами домов быстро плыли облака, в сизой туче за Москвой-рекой
сверкнула молния. Самгин прислушался сквозь шум города, ожидая грома,
но гром не долетел, увяз в туче. Толкались люди, шагая встречу, обгоняя,
уходя от них, Самгин зашел в сквер храма Христа, сел на скамью, и первая
ясная его мысль сложилась вопросом: чем испугал жандарм? Теперь ему казалось,
что задолго до того, как офицер предложил ему службу шпиона, он уже знал,
что это предложение будет сделано. Испугало его не это оскорбительное
предложение, а что-то другое. Самгин не мог не признать, что жандарм сделал
правильный вывод из его записок, и, дотронувшись рукою до пакета в кармане,
решил:
"Сожгу. И больше не буду писать".
Думалось бессвязно, мысли разбивались о какое-то неясное, но подавляющее
чувство. Прошли две барышни, одна, взглянув на него, толкнула подругу
локтем и сказала ей что-то, подруга тоже посмотрела на Клима, обе они
замедлили шаг.
"Как на самоубийцу, дуры, - подумал Самгин. - Должно быть, у меня
лицо нехорошее".
Встал и пошел домой, убеждая себя:
"Разумеется, я оскорблен морально, как всякий порядочный человек.
Морально".
Но он смутно догадывался, что возникшая необходимость убеждать себя
в этом утверждает обратное: предложение жандарма не оскорбило его. Пытаясь
погасить эту догадку, он торопливо размышлял:
"Если б теория обязывала к практической деятельности, - Шопенгауэр
и Гартман должны бы убить себя. Ленау, Леопарди..."
Но Самгин уже понял: испуган он именно тем, что не оскорблен предложением
быть шпионом. Это очень смутило его, и это хотелось забыть.
"Клевещу я на себя, - думал он. - А этот полковник или ротмистр -
глуп. И - нахал. Жертвенное служение... Активная борьба против Любаши.
Идиот..."
Шел Самгин медленно, но весь вспотел, а в горле и во рту была горьковатая
сухость.
Анфимьевна, встретив его, захлебнулась тихой радостью.
- Ой, голубчик, выпустили! Слава тебе, господи! А я уж думала, что, как
Петрушу Маракуева, надолго засадят.
Крестясь, она попутно отерла слезы, потом, с великой осторожностью поместив
себя на стул, заговорила шопотом:
- А - Любаша-то - как? Вот - допрыгалась! Ах ты, господи, господи! Милые
вы мои, на что вы обрекаете за народ молодую вашу жизнь...
Но, вздохнув с силою поршня машины и закатывая рукава кофты к локтям,
она заговорила деловито:
- А я в то утро, как увели вас, взяла корзинку, будто на базар иду, а
сама к Семену Васильичу, к Алексею Семенычу, так и так, - говорю. Они
в той же день Танечку отправили в Кострому, узнать - Варя-то цела ли?
Снова всплакнув, причем ее тугое лицо не морщилось, она встала:
- Кушать будете али чайку?
Есть и пить Самгин отказался, но пошел с нею в кухню.
- Вот бумаги надо сжечь.
- Дайте-ко мне, я сожгу.
Самгин остался в кухне и видел, как она сожгла его записки на шестке
печи, а пепел бросила в помойное ведро и даже размешала его там веником.
Во всем этом было нечто возмутительное. Самгин почувствовал в горле истерический
ком, желание кричать, ругаться, с полчаса безмысленно походил по комнате,
рассматривая застывшие лица знаменитых артистов, и, наконец, решил сходить
в баню. Часа через два, разваренный, он сидел за столом, пред кипевшим
самоваром, пробуя написать письмо матери, но на бумагу сами собою ползли
из-под пера слова унылые, жалобные, он испортил несколько листиков, мелко
изорвал их и снова закружился по комнате, поглядывая на гравюры и фотографии.
"Жертвенное служение", - думал он, всматриваясь в чахоточное
лицо Белинского.
В прихожей кто-то засмеялся и сказал простонародным говорком, по-московски
подчеркивая а.
- А ты полно, мать! Привыкай...
В столовую вошел хлыщеватый молодой человек, светловолосый, гладко причесанный,
во фланелевом костюме, с соломенной шляпой в руке, с перчатками в шляпе.
- Алексей Семенов Гогин, - сказал он, счастливо улыбаясь, улыбалась и
Анфимьевна, следуя за ним, он сел к столу, бросил на диван шляпу; перчатки,
вылетев из шляпы, упали на пол.
- Не беспокойся, - сказал гость Анфимьевне, хотя она не беспокоилась,
а, стоя в дверях, сложив руки на животе, смотрела на него умильно и ожидая
чего-то.
- Быстро отделались, поздравляю! - сказал Гогин, бесцеремонно и как старого
знакомого рассматривая Клима. - Кто вас пиявил? - спросил он.
Он был похож на приказчика из хорошего магазина галантереи, на человека,
который с утра до вечера любезно улыбается барышням и дамам; имел самодовольно
глупое лицо здорового парня; такие лица, без особых примет, настолько
обычны, что не остаются в памяти. В голубоватых глазах – избыток ласковости,
и это увеличивало его сходство с приказчиком.
- Ага, полковник Васильев! Это - шельма! Ему бы лошадями торговать, цыганской
морде.
- Вы его знаете? - спросил Клим.
- Ну, еще бы не знать! Его усердием я из университета вылетел, - сказал
Гогин, глядя на Клима глазами близорукого, и засмеялся булькающий смехом
толстяка, а был он сухощав и строен.
Самгину не верилось, что этот франтоватый парень был студентом, но он
подумал, что "осведомители" полковника Васильева, наверное,
вот такие люди без лица.
- Вас игемон этот по поводу Любаши о чем спрашивал? - осведомился Гогин.
- О ней - ни слова.
- Так-таки - ни слова?
Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал:
- Спросил только - давно ли я знаком с нею.
- М-да, - промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики. – Видите ли,
папахен мой желает взять Любашу на поруки, она ему приходится племянницей
по сестре...
- Значит, двоюродная сестра вам, - заметил Самгин, чтоб сказать что-нибудь
и находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей.
- Нет, я - приемыш, взят из воспитательного дома, - очень просто сказал
Гогин. - Защитники престол-отечества пугают отца - дескать, Любовь Сомова
и есть воплощение злейшей крамолы, и это несколько понижает градусы гуманного
порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать:
какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в "Красном Кресте"?
- Не знаю, - сухо ответил Клим, но это не смутило Гогина, он продолжал:
- В Нижний ездила она - не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется,
нижегородец?
- Нет, - сказал Самгин и тоже спросил: не знает ли Гогин чего-нибудь о
Варваре?
- Цела, - ответил тот, глядя в самовар и гримасничая. - По некоторым признакам,
дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции.
Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих: этот человек, столь
обыкновенный внешне, манерой речи выдавал себя; он не так прост, каким
хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность
к едкости.
- Самопрыгающая натура, - сказал он о Любаше, приемного отца назвал "иже
еси в либералах сущий", а постукав кулаком по "Русским ведомостям",
заявил:
- На медные деньги либерализма в наше время не проживешь.
Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки
его проскальзывали слова неглупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном,
что революционное настроение растет, - он спокойненько сказал:
- Весьма многими командует не убежденность, а незаконная дочь ее - самонадеянность.
Самгин почти обрадовался, когда гость ушел.
- Кто это? - спросил он Анфимьевну.
- Али вы не знаете? - удивилась она. - Семен Васильич, папаша его, знаменитый
человек в Москве.
- Чем знаменит?
- Ну, как же! Богатый. Детскую лечебницу построил.
- Доктор?
- Что это вы! У него - свое дело, - как будто даже обиделась Анфимьевна.
На другой день явился дядя Миша, усталый, запыленный; он благосклонно
пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну:
- Дайте стакан воды, с вареньем, если найдется, а то - кусочек сахару.
Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше, и сказал:
- Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой "Философию мистики".
Но, может быть, я неверно прочитал, - ворчливо добавил он, - какая же
философия мистики возможна?
Когда Самгин принес толстую книгу Дюпреля, - дядя Миша удивленно и неодобрительно
покачал головой.
- Подумайте, оказывается есть такая философия! Развернув переплет книги,
он прищурил глаз, посмотрел в трубочку корешка.
- Дайте что-нибудь длинненькое.
Он вытолкнул карандашом из-под корешка бумажку, сложенную, как аптекарский
пакетик порошков, развернул ее и, прочитав что-то, должно быть, приятное,
ласково усмехнулся.
- Оказывается, из мистики тоже можно извлечь кое-что полезное.
Наблюдая за его действиями, Самгин подумал, что раньше все это показалось
бы ему смешным и не достойным человека, которому, вероятно, не менее пятидесяти
лет, а теперь вот, вспомнив полковника Васильева, он невольно и сочувственно
улыбнулся дяде Мише.
Дядя Миша, свернув бумажку тугой трубочкой, зажал ее между большим и
указательным пальцами левой руки.
- Не заметили - следят за домом? - спросил он.
- Не заметил.
- Должны следить, - сказал маленький человек не только уверенно, а даже
как будто требовательно. Он достал чайной ложкой остаток варенья со дна
стакана, съел его, вытер губы платком и с неожиданным ехидством, которое
очень украсило его лицо сыча, спросил, дотронувшись пальцем до груди Самгина:
- Как же это у вас: выпустили "Манифест Российской социал-демократической
партии" и тут же печатаете журнальчик "Рабочее знамя",
но уже от "Русской" партии и более решительный, чем этот "Манифест",
- как же это, а?
Клим сказал, что он еще не видел ни того, ни другого.
- То-то вот, - весело сверкая черными глазками, заметил дядя Миша. - Торопитесь
так, что и столковаться не успели. До свидания.
Самгин, открыв окно, посмотрел, как он не торопясь прошел двором, накрытый
порыжевшей шляпой, серенький, похожий на старого воробья. Рыжеволосый
мальчик на крыльце кухни акушерки Гюнтер чистил столовые ножи пробкой
и тертым кирпичом.
«Жизнь - сплошное насилие над человеком», - подумал Самгин глядя, как
мальчишка поплевывает на ножи. - Вероятно, полковник возобновит со мной
беседу о шпионаже... Единственный человек, которому я мог бы рассказать
об этом, - Кутузов. Но он будет толкать меня в другую сторону..."
Со двора поднимался гнилой запах мыла, жира; воздух был горяч и неподвижен.
Мальчишка вдруг, точно его обожгло, запел пронзительным голосом:
Что ты, суженец, не весел,
Беззаботный сорванец?
Что ты голову...
Из окна кухни высунулась красная рука и, выплеснув на певца ковш воды,
исчезла, мальчишка взвизгнул, запрыгал по двору.
"Этот жандарм, в сущности, боится и потому..." Размышляя, Самгин
любовался, как ловко рыжий мальчишка увертывается от горничной, бегавшей
за ним с мокрой тряпкой в руке; когда ей удалось загнать его в угол двора,
он упал под ноги ей, пробежал на четвереньках некоторое расстояние, высоко
подпрыгнул от земли и выбежал на улицу, а в ворота, с улицы, вошел дворник
Захар, похожий на Николая Угодника, и сказал:
- Ты бы, Маш, постарше с кем играла, повзрослее.
- Еще поиграю, - откликнулась горничная.
В часы тяжелых настроений Клим Самгин всегда торопился успокоить себя,
чувствуя, что такие настроения колеблют и расшатывают его веру в свою
оригинальность. В этот день его желание вернуться к себе самому было особенно
напряженно, ибо он, вот уже несколько дней, видел себя рекрутом, который
неизбежно должен отбывать воинскую повинность. Но он незаметно для себя
почти привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям осени
или к местным говорам. Он уже не вспоминал возмущенный окрик горбатенькой
девочки:
"Да - что вы озорничаете!"
Но хорошо помнил скептические слова:
"Да - был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?"
Клим был уверен, что он не один раз убеждался:
"не было мальчика", и это внушало ему надежду, что все, враждебное
ему, захлебнется словами, утонет в них, как Борис Варавка в реке, а поток
жизни неуклонно потечет в старом, глубоко прорытом русле.
За три недели, одиноко прожитых им в квартире Варвары, он убедился,
что Любаша играет роль более значительную, чем он приписывал ей. Приходила
нарядная дама под вуалью, с кружевным зонтиком в руках, она очень расстроилась
и, кажется, даже испугалась, узнав, что Сомова арестована. Ковыряя зонтиком
пол, она нервно сказала:
- Но - я приезжая, и мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из ее
близких друзей!
Близких - она подчеркнула, и это понудило Клима дать ей адрес Алексея
Гогина. Потом явился угрюмый, плохо одетый человек, видимо, сельский учитель.
Этот - рассердился.
- Арестована? Ну, вот... А вы не знаете, как мне найти Марью Ивановну?
Клим не знал. Тогда человек ушел, пробормотав:
- Как же это у вас...
Приходил юный студентик, весь новенький, тоже, видимо, только что приехавший
из провинции; скромная, некрасивая барышня привезла пачку книг и кусок
деревенского полотна, было и еще человека три, и после всех этих визитов
Самгин подумал, что революция, которую делает Любаша, едва ли может быть
особенно страшна. О том же говорило и одновременное возникновение двух
социал-демократических партий.
На двадцать третий день он был вызван в жандармское управление и там
встречен полковником, парадно одетым в мундир, украшенный орденами.
- Так как же, а? - торопливо пробормотал полковник, но, видимо, сообразив,
что вопрос этот слишком часто срывается с его языка, откашлялся и быстро,
суховато заговорил:
- Вот-с, извольте расписаться в получении ваших бумаг. Внимательно прочитав
их, я укрепился в своей мысли. Не передумали?
- Нет, - сказал Самгин очень твердо.
- Весьма сожалею, - сказал полковник, взглянув на часы. - Почему бы вам
не заняться журналистикой? У вас есть слог, есть прекрасные мысли, например;
об эмоциональности студенческого движения, - очень верно!
- Считаю себя недостаточно подготовленным для этого, - ответил Самгин,
незаметно всматриваясь в распустившееся, оплывшее лицо жандарма. Как в
ночь обыска, лицо было усталое, глаза смотрели мимо Самгина, да и весь
полковник как-то обмяк, точно придавлен был тяжестью парадного мундира.
- Тоже вот о няньках написали вы, любопытнейшая мысль, вот бы и развить
ее в статейку.
"Жертвенное служение", - думал Клим с оттенком торжества,
и ему захотелось сказать: "Вы - не очень беспокойтесь, революцию
делает Любаша Сомова!"
Он даже не мог скрыть улыбку, представив, какой эффект могла бы вызвать
его шутка.
А полковник, вытирая лысину и как бы поймав его мысль, задумчиво спросил:
- А, скажите, Любовь Антоновна Сомова давно занимается спиритизмом и вообще
- этим? - он пошевелил пальцами перед своим лбом.
- Она еще в детстве обнаруживала уклон в сторону чудесного, - нарочито
небрежно ответил Самгин.
Полковник взглянул на него и отрицательно потряс головою.
- Не похоже, - сказал он. И, бесцеремонно, ожившими глазами разглядывая
Клима, повторил с ударением на первом слове: - Совсем не похоже.
Самгин пожал плечами и спросил:
- Вы, полковник, не можете сообщить мне причину ареста?
Тот подтянулся, переступил с ноги на ногу, позвенев шпорами, и, зорко
глядя в лицо Клима, сказал с галантной улыбочкой:
- Не должен бы, но - в качестве компенсации за приятное знакомство...
В общем - это длинная история, автором которой, отчасти, является брат
ваш, а отчасти провинциальное начальство. Вам, вероятно, известно, что
брат ваш был заподозрен в попытке бегства с места ссылки? Кончив ссылку,
он выхлопотал разрешение местной власти сопровождать какую-то научную
экспедицию, для чего ему был выдан соответствующий документ. Но раньше
этого ему было выписано проходное свидетельство во Псков, и вот этим свидетельством
воспользовалось другое лицо.
Сделав паузу, полковник щелкнул пальцами и вздохнул:
- Установлено, что брат ваш не мог участвовать в передаче документа.
- А тот - бежал? - неосторожно спросил Самгин, вспомнив Долганова.
Полковник присел на край стола и мягко спросил, хотя глаза его стали плоскими
и посветлели:
- Почему вы знаете, что бежал?
- Я - спрашиваю.
- А может быть, знаете, а? Клим сухо сказал:
- Если человек воспользовался чужим документом...
- Да, да, - небрежно сказал полковник, глядя на ордена и поправляя их.
- Но не стоит спрашивать о таких... делах. Что тут интересного?
Он встал, протянул руку.
- Все-таки я не понял, - сказал Самгин.
- Ах, да! Ну, вас приняли за этого, который воспользовался документом.
"Это он выдумал", - сообразил Самгин.
- Его, разумеется, арестовали уже... "Врет", - подумал Клим.
- Честь имею, - сказал полковник, вздыхая. - Кстати: я еду в командировку...
на несколько месяцев. Так в случае каких-либо недоразумений или вообще...
что-нибудь понадобится вам, - меня замещает здесь ротмистр Роман Леонтович.
Так уж вы - к нему. С богом-с!
Самгин вышел на улицу с чувством иронического снисхождения к человеку,
проигравшему игру, и едва скрывая радость победителя.
"Этот дурак все-таки не потерял надежды видеть меня шпионом. Долганов,
несомненно, удрал. Против меня у жандарма, наверное, ничего нет, кроме
желания сделать из меня шпиона".
|