| максим горький мать библиотека революционера большевизм рабочее движение |
Максим Горький Мать Роман ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
|
| Каждый
день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел
фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали
на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить
сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким
каменным клеткам фабрики; она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая
грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами.
Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала
воздух, а встречу людям плыли иные звуки - тяжелая возня машин, ворчание
пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой,
как толстые палки.
Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, - фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление, и даже радость, - на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых. День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и - был доволен. По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать - до вечера. Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки. Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце. Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, - говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка - убийством. В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью. По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами, или оскорбленная, в гневе или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они
отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно
пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела
детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано
утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить
их для работы. Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так – о чем же разговаривать? Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу. Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой, и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет. От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан... Пожив такой жизнью лет пятьдесят, - человек умирал.
Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, - маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно. -
Ну, расходись, сволочь! - глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его
лице сверкали крупные желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо
воющей руганью. Говорил
он мало, и "сволочь" - было его любимое слово. Им он называл
начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене: Вскоре
после этого он сказал жене: Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним. Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов отправлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и, точно желая найти кого-то, царапал своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала вовремя убрать ее, ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его усах, сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял волосы бороды и усов толстымипальцами и - пел. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним. Умер
он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он ворочался на постели,плотно
закрыв глаза, и скрипел зубами. Иногда говорил жене: Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал, что необходима операция, и больного нужно сегодня же везти в больницу. - Пошел к черту, - я сам умру!.. Сволочь! - прохрипел Михаил. А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погрозив ей, заявил: - Выздоровлю - тебе хуже будет! Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака, старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел - не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу: - Чай, Пелагея-то рада-радешенька, что помер он... Некоторые поправляли: - Не помер, а - издох... Когда гроб зарыли - люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...
Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери: - Ужинать! Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал: - Мамаша, - живо!.. - Дурачок ты! - печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление. - И - курить буду! Дай мне отцову трубку... - тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел. Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос: "Пьян? Пьян?" Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был. А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила: - Не надо бы этого тебе... Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал: "Видно,
рано еще мне. Другие пьют и - ничего, а меня тошнит..." - Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь... Плотно закрыв глаза, он сказал: - Все пьют... Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала: - А ты - не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а? Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее. Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого; это придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная... И по щекам ее медленно текли слезы. - Не плачь! - тихо попросил сын. - Дай мне пить. - Я тебе воды со льдом принесу... Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустилась на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин... Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети - квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее - кровать Павла, в переднем - стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу - вот и все. Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстух, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадриль и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное. Однажды мать спросила его: - Ну что, весело тебе было вчера? Он ответил с угрюмым раздражением: - Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или - куплю себе ружье. Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя, по праздникам, куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится непохожим на фабричную молодежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни, - это вызвало в душе ее чувство смутного опасения. - Ты, может, нездоров, Павлуша? - спрашивала она его иногда. - Нет, я здоров! - отвечал он. - Худой ты очень! - вздохнув, говорила мать. Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее... Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит все меньше, и, в то же время, она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее грубые и резкие выражения - выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого. Однажды он принес и повесил на стенку картину - трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. - Это воскресший Христос идет в Эммаус! - объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала: "Христа почитаешь, а в церковь не ходишь..." Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид. Он говорил ей "вы" и называл "мамаша", но иногда, вдруг, обращался к ней ласково: - Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой... Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое. Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала: "Все люди - как люди, а он – как монах. Уж очень строг. Не по годам это..." Иногда она думала: "Может, он девицу себе завел какую-нибудь?" Но
возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти Так шли недели, месяцы, и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возраставших.
Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову и вопросительно взглянул ей в лицо. - Ничего, Паша, это я так! - поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки в снова вышла к сыну. -
Хочу я спросить тебя, - тихонько сказала она, - что ты все читаешь? Не
глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил: Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос - ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его. - Зачем же ты это, Паша? - проговорила она. Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил: - Хочу знать правду. Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатом горем и тоской. - Не плачь! - говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается. - Подумай, какою жизнью мы живем? Тебе сорок лет, - а разве ты жила? Отец тебя бил, - я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе, - горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал - откуда оно? Он работал тридцать лет, начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их - семь! Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, - говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни. - Какие радости ты знала? - спрашивал он. - Чем ты можешь помянуть прожитое? Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное, - оно мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, - думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все - и она сама - только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, - все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее. Матерей - не жалеют. Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, - была горькая знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской. - Что же ты хочешь делать? - спросила она, перебивая его речь. - Учиться, а потом - учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять - отчего жизнь так тяжела для нас. Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех - и для нее - жизнью. Ей хотелось сказать ему: "Милый, что ты можешь сделать?" Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее. Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах; ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмуря брови, порою в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына: - Так ли, Паша? -
Так! - отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые,
желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их,
как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу... В
ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: "Так
ли?" Он
встал, прошелся по комнате, потом сказал: Он
взял ее руку и крепко стиснул в своих. -
Худеешь ты все... Сын
стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь,
сказал: Он
замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво
сказал: Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать, босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие мутные слезы.
И
снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу. Однажды среди
недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери: В
субботу, вечером, Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся и, снова
уходя куда-то, сказал, не глядя на мать: Ей
казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись
и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то
уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене. В
сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно подняв брови,
встала. Человек
медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с
сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь
на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу, осмотрел его, как
бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова
у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки и длинные
усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими выпуклыми глазами
серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил: Спросил
он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но - женщину обидел этот вопрос.
Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась: Мать
почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось,
что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку.
Виновато улыбаясь, она сказала: Человек
дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись
к затылку. Потом он серьезно сказал: Он
ей нравился, и, повинуясь желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова
о сыне, она предложила: Снова
раздались шаги в сенях, дверь торопливо отворилась - мать снова встала.
Но, к ее удивлению, в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым
лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила: Хохол
помогал ей раздеваться и спрашивал: "Без
галош ходит!" - мелькнуло в голове матери. "Ах
ты, сердечный!" - подумала мать и вздохнула. Наташа заговорила что-то
быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла: Потом
пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала, - это
племянник старого фабричного рабочего Сизова - Федор, остролицый, с высоким
лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесанный и скромный, был
незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых
человека, она знала их, оба - фабричные. Сын ласково сказал ей: -
Вот это и есть - запрещенные люди? - тихонько спросила она.
Самовар
вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола,
а Наташа, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой. -
Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям? И детски жалобно Павел сидел рядом с Наташей, он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко остриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой, их циничные шутки. Вспоминала, - и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце. Припомнилось
сватовство покойника мужа. На одной из вечеринок он поймал ее в темных
сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито: И
прислал. Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув. Вспыхнул
спор, засверкали слова, точно языки огня в костре. Мать не понимала, о
чем кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился,
не говорил знакомых ей резких слов. Хохол
слушал и качал головою в такт ее словам. Весовщиков, рыжий и приведенный
Павлом фабричный стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились
матери. -
Сытых немало, честных нет! - говорил хохол. - Мы должны построить мостик
через болото этой гниючей жизни к будущему царству доброты сердечной,
вот наше дело, товарищи! Было
уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли Весовщиков и
рыжий, это снова не понравилось матери. Мать
посмотрела на сына - он стоял у двери в комнату и улыбался. -
Хорошо ты придумал, Павлуша! - говорила она. - Хохол очень милый! И барышня,
- ах, какая умница! Кто такая? Это
поразило мать. Она стояла среда комнаты и, удивленно двигая бровями, молча
смотрела на сына. Потом тихо спросила: Она
не была уверена в этом, ей хотелось услышать от сына утвердительный ответ.
Он, спокойно глядя ей в глаза, твердо заявил: -
Иисусе Христе, помилуй нас! - тихо прошептала мать. В сердце закипали
слезы и, подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя,
о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами ее встала
плоская снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется
ветер, белый, косматый. Посреди равнины одиноко идет, качаясь, небольшая,
темная фигурка девушки. Ветер путается у нее в ногах, раздувает юбку,
бросает ей в лицо колючие снежинки. Трудно идти, маленькие ноги вязнут
в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед и - точно былинка
среди мутной равнины, в резвой игре осеннего ветра. Справа от нее, на
болоте, темной стеной стоит лес, там уныло шумят тонкие голые березы и
осины. Где-то далеко впереди тускло мелькают огни города...
Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной пологой лестницы, - она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей. Появлялись
новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила
Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать
связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась,
а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала: -
Родителей лишилась? - повторила она. - Это - ничего! Отец у меня такой
грубый, брат тоже. И - пьяница. Старшая сестра - несчастная... Вышла замуж
за человека много старше ее. Очень богатый, скучный, жадный. Маму - жалко!
Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же быстро
бегает и всех боится. Иногда - так хочется видеть ее... Что-то
близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, она грустно
проговорила: Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то, он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый, белобрысый, точно вымытый щелоком, Иван Букин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим, серьезным голосом, он и большелобый Федя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла. Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии, - он говорил особенным - на "о" - говорком. Он вообще весь был какой-то далекий. Рассказывал он о простых вещах - о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо - обо всем, чем люди живут изо дня в день. И во всем он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда - явно невыгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и легкой жизнью, а здесь - все чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нем спокойное, упрямое желание перестроить все на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда теплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю ее руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее. Являлись и еще люди из города, чаще других - высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые темные брови, а когда говорила - тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали. Сашенька
первая сказала громко и резко: Когда
все разошлись, она спросила Павла: А
потом страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась,
и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных
слов. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала
себя тревожно, неловко... Они
заспорили о чем-то непонятном. Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становились странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам. -
Молодцы товарищи немцы! - кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем. Хохол
говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви: И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе. В
тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли.
Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать: хотя было оно непонятно
ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной
надежд. Эта детская, но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею. Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила. Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать, - в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира. Резкие слова и суровый напев ее не нравились матери, но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не умещавшейся в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни. Эту
песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей,
как воздух мартовского дня - первого дня грядущей весны. Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках, и все более непонятны для матери были их речи. -
Нам нужна газета! - часто говорил Павел. Жизнь становилась торопливой
и лихорадочной, люди все быстрее перебегали от одной книги к другой, точно
пчелы с цветка па цветок. Однажды
мать сказала сыну:
Маленький дом на окраине слободки будил внимание людей; стены его уже щупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья молвы, - люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро, пугливо убегал прочь. Однажды
Власову остановил на улице трактирщик Бегунцов, благообразный старичок,
всегда носивший черную шелковую косынку на красной дряблой шее, а на груди
толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, остром и блестящем,
сидели черепаховые очки, и за это его звали - Костяные Глаза. Вычурно
изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушел, оставив
мать в недоумении. Мать
передавала сыну все эти разговоры, он молча пожимал плечами, а хохол смеялся
своим густым, мягким смехом. -
Ну, конечно! - брезгливо сморщив лицо, воскликнул Павел. Мать
взглянула на его строгое лицо. Мать
задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видела, что его
советов слушаются даже те товарищи, которые - как хохол - старше его годами,
но ей казалось, что все боятся его и никто не любит за эту сухость. Было
слышно, как хохол медленно встал и начал ходить. По полу шаркали его босые
ноги. И раздался тихий, заунывный свист. Потом снова загудел его голос: -
Да я, видишь, полагаю, что если любишь девушку, то надо же ей сказать
об этом, иначе не будет никакого толка! Павел громко захлопнул книгу.
Был слышен его вопрос: Стало
тихо. Потом Павел заговорил как будто мягче: Вдруг
хохол спросил: Наутро
Андрей показался матери ниже ростом и еще милее. А сын, как всегда, худ,
прям и молчалив. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимович, а сегодня,
не замечая, сказала ему: Она молча похлопала его по руке. Ей хотелось сказать ему много ласковых слов, но сердце ее было стиснуто жалостью, и слова не шли с языка.
В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы. Пожилые
люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались: В трактире и на фабрике замечали новых, никому не известных людей. Они выспрашивали, рассматривали, нюхали и сразу бросались всем в глаза, одни - подозрительной осторожностью, другие - излишней навязчивостью. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него, - и опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него. Как-то
вечером Марья Корсунова постучала с улицы в окно, и, когда мать открыла
раму, она громким шепотом заговорила: Толстые
губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый нос сопел, глаза
мигали и косились из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице. Мать,
закрыв окно, медленно опустилась на стул. Но сознание опасности, грозившей
сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо оделась, зачем-то плотно окутала
голову шалью и побежала к Феде Мазину, - он был болен и не работал. Когда
она пришла к нему, он сидел под окном, читая книгу, и качал левой рукой
правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он быстро вскочил, его
лицо побледнело. Возвратясь
домой, она собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому,
заглядывая в печь, под печку, даже в кадку с водой. Ей казалось, что Павел
сейчас же бросит работу и придет домой, а он не шел. Наконец, усталая,
она села в кухне на лавку, подложив под себя книги, и так, боясь встать,
просидела до поры, пока не пришли с фабрики Павел в хохол. Мать
встала и, указывая на книжки, виновато объяснила: Скучно им, стыдно, оттого они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же понимают! Один раз порыли у меня все, сконфузились и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой. Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишь-сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят несуразное такое, поговорят - опять велят солдатам в тюрьму отвести. Так
и водят туда и сюда, - надо же им жалованье свое оправдать! А потом выпустят
на волю, - вот и все! Он
встал и, тряхнув головой, заговорил улыбаясь: Речь
его лилась спокойно и отталкивала куда-то в сторону тревогу ожидания обыска,
выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был такой
гибкий. Я,
Паша, скреплюсь, - пообещала она. И вслед за тем у нее тоскливо вырвалось: А
они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреждая возможность шуток над
ее страхом, мать первая стала шутить над собой:
Они
явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николай
Весовщиков, и, втроем с Андреем, они говорили о своей газете. Было поздно,
около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные,
тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил
за собой дверь. В сенях загремело железное ведро. И вдруг дверь широко
распахнулась - хохол шагнул в кухню, громко шепнув: В
дверь странно быстро ввернулась высокая серая фигура, за ней другая, двое
жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий,
насмешливый голос: -
Павел Власов? - спросил офицер, прищурив глаза, и, когда Павел молча кивнул
головой, он заявил, крутя ус: - Я должен произвести обыск у тебя. Старуха,
встань! Там - кто? - спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул
к двери. В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие серые глаза не отрываясь смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой. Стараясь
подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо, грудью
вперед, - это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность. Она громко
топала ногами, а брови у нее дрожали... Вдруг
среди молчания раздался режущий ухо голос Николая: -
Молчать бы Николаю-то! - тихо шепнула мать Павлу. Он пожал плечами. Хохол
опустил голову. Офицер,
подняв руку и грозя Весовщикову маленьким пальцем, сказал: Офицер
мигнул правым глазом, потер его и, оскалив мелкие зубы, заговорил: -
Выведите вон этого скота! - сказал офицер. Двое жандармов взяли Николая
под руки, грубо повели его в кухню. Там он остановился, крепко упираясь
ногами в пол, и крикнул: Мать
слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос и, со страхом глядя в
желтое лицо, чувствовала в этом человеке врага без жалости, с сердцем,
полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти
забыла, что они есть. Мать,
невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг, точно прыгнув
в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел, и
бровь низко опустилась. -
Это вас не касается, - молчать! - крикнул офицер, вставая. – Введите арестованного
Весовщикова! Снова
озлобляясь, она сказала: Наконец
толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени и, прозвенев шпорами, исчезла.
Последним вышел Рыбин, он окинул Павла внимательным взглядом темных глаз,
задумчиво сказал: Заложив
руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги
и белье, валявшееся па полу, говорил угрюмо: Он
сказал ей "мать" и "ты", как говорил только тогда,
когда вставал ближе к ней. Она подвинулась к нему, заглянула в его лицо
и тихонько спросила:
На
другой день стало известно, что арестованы Букин, Самойлов, Сомов и еще
пятеро. Вечером забегал Федя Мазин - у него тоже был обыск, и, довольный
этим, он чувствовал себя героем. Он
закрыл на миг глаза, сжал губы, быстрым жестом обеих рук взбил волосы
на голове и, глядя на Павла покрасневшими глазами, сказал: Через
несколько минут дверь в кухню медленно отворилась, вошел Рыбин. Мать
ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти
на стол, окинул Павла темным взглядом. Речь
его лилась тяжело, но свободно, он гладил бороду черной рукою и пристально
смотрел в лицо Павла. Мать
громко потянула носом воздух и ушла, немного обиженная тем, что они не
обратили внимания на ее слова. Рыбин
улыбнулся, - зубы у него были белые и крепкие. Мать
жадно слушала его крепкую речь; было приятно видеть, что к сыну пришел
пожилой человек и говорит с ним, точно исповедуется. Но ей казалось, что
Павел ведет себя слишком сухо с гостем, и, чтобы смягчить его отношение,
она спросила Рыбина: Павел
встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину. Павел
заговорил горячо и резко о начальстве, о фабрике, о том, как за границей
рабочие отстаивают свои права. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как
бы ставя точку. Не однажды он восклицал: Тогда
Павел, остановясь против него, серьезно заметил: Тут
вмешалась мать. Когда сын говорил о боге и обо всем, что она связывала
с своей верой в него, что было дорого и свято для нее, она всегда искала
встретить его глаза; ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не царапал
ей сердце острыми и резкими словами неверия. Но за неверием его ей чувствовалась
вера, и это успокаивало ее. Глаза
ее налились слезами. Она мыла посуду, и пальцы у нее дрожали. - Вот так, да! - воскликнул Рыбин, стукнув пальцами по столу. - Они и бога подменили нам, они все, что у них в руках, против нас направляют! Ты помни, мать, бог создал человека по образу и подобию своему, - значит, он подобен человеку, если человек ему подобен! А мы - не богу подобны, но диким зверям. В церкви нам пугало показывают... Переменить бога надо, мать, очистить его! В ложь и в клевету одели его, исказили лицо ему, чтобы души нам убить!.. Он
говорил тихо, но каждое слово его речи падало на голову матери тяжелым,
оглушающим ударом. И его лицо, в черной раме бороды, большое, траурное,
пугало ее. Темный блеск глаз был невыносим, он будил ноющий страх в сердце. А
он говорил уверенно и спокойно: -
Вот - был Христос! - воскликнул Павел. В комнате непрерывно звучали два голоса, обнимаясь и борясь друг с другом в возбужденной игре. Шагал Павел, скрипел пол под его ногами. Когда он говорил, все звуки тонули в его речи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голос Рыбина, - был слышен стук маятника и тихий треск мороза, щупавшего стены дома острыми когтями. -
Скажу тебе по-своему, по-кочегарски: бог - подобен огню. Так! Живет он
в сердце. Сказано: бог - слово, а слово - дух... Мать
заснула и не слышала, когда ушел Рыбин. Но он стал приходить часто, и
если у Павла был кто-либо из товарищей, Рыбин садился в угол и молчал,
лишь изредка говоря: Но если Павел был один, они тотчас же вступали в бесконечный, но всегда спокойный спор, и мать, тревожно слушая их речи, следила за ними, стараясь понять - что говорят они? Порою ей казалось, что широкоплечий, чернобородый мужик и ее сын, стройный, крепкий, - оба ослепли. Они тычутся из стороны в сторону в поисках выхода, хватаются за все сильными, но слепыми руками, трясут, передвигают с места на место, роняют на пол и давят упавшее ногами. Задевают за все, ощупывают каждое и отбрасывают от себя, не теряя веры и надежды... Они приучили её слышать слова, страшные своей прямотой и смелостью, но эти слова уже не били ее с той силой, как первый раз, - она научилась отталкивать их. И порой за словами, отрицавшими бога, она чувствовала крепкую веру в него же. Тогда она улыбалась тихой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбин не нравился ей, но уже не возбуждал вражды. Раз
в неделю она носила в тюрьму белье и книги для хохла. Однажды ей дали
свидание с ним, и, придя домой, она умиленно рассказывала:
|
|
 |
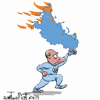 |
 |
| максим горький мать библиотека революционера большевизм рабочее движение |
|
||||||
|
|
|