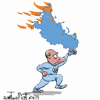Серый маленький
дом Власовых все более и более притягивал внимание слободки. В этом
внимании было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды,
но зарождалось и доверчивое любопытство. Иногда приходил какой-то человек
и, осторожно оглядываясь, говорил Павлу:
- Ну-ка, брат, ты тут книги читаешь, законы-то известны тебе. Так вот,
объясни ты...
И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправедливости полиции или администрации
фабрики. В сложных случаях Павел давал человеку записку в город к знакомому
адвокату, а когда мог - объяснял дело сам.
Постепенно в людях
возникало уважение к молодому серьезному человеку, который обо всем
говорил просто и смело, глядя на все и все слушая со вниманием, которое
упрямо рылось в путанице каждого частного случая и всегда, всюду находило
какую-то общую, бесконечную нить, тысячами крепких петель связывавшую
людей.
Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с "болотной
копейкой".
За фабрикой, почти
окружая ее гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником
и березой. Летом оно дышало густыми, желтыми испарениями, и на слободку
с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике,
и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его,
а кстати выбрать торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местность
и улучшит условия жизни для всех, директор распорядился вычитать из
их заработка копейку с рубля на осушение болота.
Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили
в число плательщиков нового налога.
Павел был болен
в субботу, когда вывесили объявление директора о сборе копейки; он не
работал и не знал ничего об этом. На другой день, после обедни, к нему
пришли благообразный старик, литейщик Сизов, высокий и злой слесарь
Махотин и рассказали ему о решении директора.
- Собрались мы, которые постарше, - степенно говорил Сизов, - поговорили
об этом, и вот, послали нас товарищи к тебе спросить, - как ты у нас
человек знающий, - есть такой закон, чтобы директору нашей копейкой
с комарами воевать?
- Сообрази! - сказал Махотин, сверкая узкими глазами. - Четыре года
тому назад они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсот было собрано.
Где они? Бани - нет!
Павел объяснил
несправедливость налога и явную выгоду этой затеи для фабрики; они оба,
нахмурившись, ушли. Проводив их, мать сказала, усмехаясь:
- Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить. Не отвечая, озабоченный
Павел сел за стол и начал что-то писать. Через несколько минут он сказал
ей:
- Я тебя прошу: поезжай в город, отдай эту записку...
- Это опасное? - спросила она.
- Да. Там печатают для нас газету. Необходимо, чтобы история с копейкой
попала в номер...
- Ну-ну! - отозвалась она. - Я сейчас... Это было первое поручение,
данное ей сыном. Она обрадовалась, что он открыто сказал ей, в чем дело.
- Это я понимаю, Паша! - говорила она, одеваясь. - Это уж они грабят!
Как человека-то зовут, - Егор Иванович?
Она воротилась
поздно вечером, усталая, но довольная.
- Сашеньку видела! - говорила она сыну. - Кланяется тебе. А этот Егор
Иванович простой такой, шутник! Смешно говорит.
- Я рад, что они тебе нравятся! - тихо сказал Павел.
- Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые! И все уважают тебя...
В понедельник Павел снова не пошел работать, у него болела голова. Но
в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый, и, задыхаясь
от усталости, сообщил:
- Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин говорят,
что лучше всех можешь объяснить. Что делается!
Павел молча стал
одеваться.
- Бабы прибежали - визжат!
- Я тоже пойду! - заявила мать. - Что они там затеяли? Я пойду!
- Иди! - сказал Павел.
По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от волнения и чувствовала
- надвигается что-то важное. В воротах фабрики стояла толпа женщин,
крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то сразу попали
в густую, черную, возбужденно гудевшую толпу. Мать видела, что все головы
были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где на груде
старого железа и фоне красного кирпича стояли, размахивая руками, Сизов,
Махотин, Вялов и еще человек пять пожилых, влиятельных рабочих.
- Власов идет! - крикнул кто-то.
- Власов? Давай его сюда...
- Тише! - кричали сразу в нескольких местах. И где-то близко раздавался
ровный голос Рыбина:
- Не за копейку надо стоять, а - за справедливость, - вот! Дорога нам
не копейка наша, - она не круглее других, но - она тяжеле, - в ней крови
человеческой больше, чем в директорском рубле, - вот! И не копейкой
дорожим, - кровью, правдой, - вот!
Слова его падали
на толпу и высекали горячие восклицания:
- Верно, Рыбин!
- Правильно, кочегар!
- Власов пришел!
Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов,
голоса сливались в шумный вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая
руками, разжигая друг друга горячими, колкими словами. Раздражение,
всегда дремотно таившееся в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода,
торжествуя, летало по воздуху, все шире расправляя темные крылья, все
крепче охватывая людей, увлекая их за собой, сталкивая друг с другом,
перерождаясь в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и
пыли, облитые потом лица горели, кожа щек плакала черными слезами. На
темных лицах сверкали глаза, блестели зубы.
Там, где стояли
Сизов и Махотин, появился Павел и прозвучал его крик:
- Товарищи!
Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат; она невольно
двинулась вперед, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно:
- Куда лезешь?
Толкали ее. Но это не останавливало мать; раздвигая людей плечами и
локтями, она медленно протискивалась все ближе к сыну, повинуясь желанию
встать рядом с ним.
А Павел, выбросив
из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл,
почувствовал, что горло ему сжала спазма боевой радости; охватило желание
бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде.
- Товарищи! - повторил он, черпая в этом слове восторг и силу.- Мы –
те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги, мы - та
живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба...
- Вот! - крикнул Рыбин.
- Мы всегда и везде - первые в работе и на последнем месте в жизни.
Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми? Никто!
- Никто! - отозвался,
точно эхо, чей-то голос. Павел, овладевая собой, стал говорить проще,
спокойнее, толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в темное,
тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз,
всасывала его слова.
- Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами,
семьей друзей, крепко связанных одним желанием - желанием бороться за
наши права.
- Говори о деле! - грубо, закричали где-то рядом с матерью.
- Не мешай! - негромко раздались два возгласа в разных местах.
Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо; десятки глаз смотрели
в лицо Павла серьезно, вдумчиво.
- Социалист, а - не дурак! - заметил кто-то.
- Ух! Смело говорит! - толкнув мать в плечо, сказал высокий кривой рабочий.
- Пора, товарищи,
понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам! Один за всех, все
за одного - вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!
- Дело говорит, ребята! - крикнул Махотин.
И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком.
- Надо вызвать директора! - продолжал Павел. По толпе точно вихрем ударило.
Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули:
- Директора сюда!
- Депутатов послать за ним!
Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх, полна гордости:
Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих, все его слушали и соглашались
с ним. Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие.
Точно град на железо,
сыпались отрывистые восклицания, ругательства, злые слова. Павел смотрел
на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами.
- Депутатов!
- Сизова!
- Власова!
- Рыбина! У него зубы страшные!
Вдруг в толпе раздались негромкие восклицания:
- Сам идет!..
Директор!..
Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой
и длинным лицом.
- Позвольте! - говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги коротким
жестом руки, но не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены,
и взглядом опытного владыки людей он испытующе щупал лица рабочих. Перед
ним снимали шапки, кланялись ему, - он шел, не отвечая на поклоны, и
сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания,
в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашалили.
Вот он прошел мимо
матери, скользнув по ее лицу строгими глазами, остановился перед грудой
железа. Кто-то сверху протянул ему руку - он не взял ее, свободно, сильным
движением тела влез наверх, встал впереди Павла и Сизова и спросил:
Это - что за сборище? Почему бросили работу? Несколько секунд было тихо.
Головы людей покачивались, точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом,
повел плечами и опустил голову.
- Cпрашиваю! - крикнул директор. Павел встал рядом с ним и громко сказал,
указывая на Сизова и Рыбина:
- Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили свое
распоряжение о вычете копейки...
- Почему? - спросил директор, не взглянув на Павла.
- Мы не считаем
справедливым такой налог на нас! - громко сказал Павел.
- Вы что же, в моем намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать
рабочих, а не заботу об улучшении их быта? Да?
- Да! - ответил Павел.
- И вы тоже? - спросил директор Рыбина.
- Все одинаково! - ответил Рыбин.
- А вы, почтенный? - обратился директор к Сизову.
- Да и я тоже попрошу: уж вы оставьте копеечку-то при нас!
И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся. Директор медленно
обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом испытующе оглядел Павла и
заметил ему:
- Вы кажетесь довольно интеллигентным человеком - неужели и вы не понимаете
пользу этой меры? Павел громко ответил:
- Если фабрика осушит болото за свой счет - это все поймут!
- Фабрика не занимается
филантропией! - сухо заметил директор. – Я приказываю всем немедленно
встать на работу!
И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не глядя
ни на кого.
В толпе раздался недовольный гул.
- Что? - спросил директор, остановясь. Все замолчали, только откуда-то
издали раздался одинокий голос:
- Работай сам!
- Если через пятнадцать минут вы не начнете работать - я прикажу записать
всем штраф! - сухо и внятно ответил директор.
Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой ропот,
и чем глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики.
- Говори с ним!
- Вот те и права! Эх, судьбишка... Обращались к Павлу, крича ему:
- Эй, законник, что делать теперь?
- Говорил ты, говорил, а он пришел - все стер!
- Ну-ка, Власов, как быть?
Когда крики стали настойчивее, Павел заявил:
- Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не откажется
от копейки...
Возбужденно запрыгали
слова:
- Нашел дураков!
- Стачка?
- Из-за копейки-то?
- А что? Ну и стачка!
- Всех за это - в шею...
- А кто работать будет?
- Найдутся!
- Иуды?
Павел сошел вниз
и встал рядом с матерью. Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь,
вскрикивая.
- Не свяжешь стачку! - сказал Рыбин, подходя к Павлу. - Хоть и жаден
народ, да труслив. Сотни три встанут на твою сторону, не больше. Этакую
кучу навоза на одни вилы не поднимешь...
Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное, черное лицо толпы и требовательно
смотрело ему в глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что
его слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, упавшие
на землю, истощенную долгой засухой.
Он пошел домой
грустный, усталый. Сзади него шли мать и Сизов, а рядом шагал Рыбин
и гудел в ухо:
- Ты хорошо говоришь, да - не сердцу, - вот! Надо в сердце, в самую
глубину искру бросить. Не возьмешь людей разумом, не по ноге обувь -
тонка, узка!
Сизов говорил матери:
- Пора нам, старикам, на погост, Ниловна! Начинается новый народ. Что
мы жили? На коленках ползали и все в землю кланялись. А теперь люди,
- не то опамятовались, не то - еще хуже ошибаются, ну - не похожи на
нас. Вот она, молодежь-то, говорит с директором, как с равным... да-а!
До увидания, Павел Михайлов, хорошо ты, брат, за людей стоишь! Дай бог
тебе, - может, найдешь ходы-выходы, - дай бог!
Он ушел.
- Да, умирайте-ка!
- бормотал Рыбин. - Вы уж и теперь не люди, а - замазка, вами щели замазывать.
Видел ты, Павел, кто кричал, чтобы тебя в депутаты? Те, которые говорят,
что ты социалист, смутьян, - вот! - они! Дескать, прогонят его - туда
ему и дорога.
- Они по-своему правы! - сказал Павел.
- И волки правы, когда товарища рвут...
Лицо у Рыбина было
угрюмое, голос необычно вздрагивал.
- Не поверят люди голому слову, - страдать надо, в крови омыть слово...
Весь день Павел
ходил сумрачный, усталый, странно обеспокоенный, глаза у него горели
и точно искали чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила:
- Ты что, Паша, а?
- Голова болит, - задумчиво сказал он.
- Лег бы, - а я доктора позову...
Он взглянул на нее и торопливо ответил:
- Нет, не надо!
И вдруг тихо заговорил:
- Молод, слабосилен я, - вот что! Не поверили мне, не пошли за моей
правдой, - значит - не умел я сказать ее!.. Нехорошо мне, - обидно за
себя!
Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить, тихонько сказала:
- Ты - погоди! Сегодня не поняли - завтра поймут...
- Должны понять! - воскликнул он.
- Ведь вот даже я вижу твою правду... Павел подошел к ней.
- Ты, мать, - хороший человек...
И отвернулся от
нее. Она, вздрогнув, как обожженная тихими словами, приложила руку к
сердцу и ушла, бережно унося его ласку.
Ночью, когда она спала, а он, лежа в постели, читал книгу, явились жандармы
и сердито начали рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер
вел себя так же, как и в первый раз, - обидно, насмешливо, находя удовольствие
в издевательствах, стараясь задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала,
не отрывая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего волнения,
но, когда офицер смеялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала,
что ему трудно не отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь
ей не было так страшно, как во время первого обыска, она чувствовала
больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть
поглощала тревогу.
Павел успел шепнуть
ей:
- Меня возьмут...
Она, наклонив голову, тихо ответила:
- Понимаю...
Она понимала - его посадят в тюрьму за то, что он говорил сегодня рабочим.
Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все должны вступиться за
него, значит - долго держать его не будут...
Ей хотелось обнять
его, заплакать, но рядом стоял офицер и, прищурив глаза, смотрел на
нее. Губы у него вздрагивали, усы шевелились - Власовой казалось, что
этот человек ждет ее слез, жалоб и просьб. Собрав все силы, стараясь
говорить меньше, она сжала руку сына и, задерживая дыхание, медленно,
тихо сказала:
- До свиданья, Паша. Все взял, что надо?
- Все. Не скучай...
- Христос с тобой...
Когда его увели,
она села на лавку и, закрыв глаза, тихо завыла. Опираясь спиной о стену,
как, бывало, делал ее муж, туго связанная тоской и обидным сознанием
своего бессилия, она, закинув голову, выла долго и однотонно, выливая
в этих звуках боль раненого сердца. А перед нею неподвижным пятном стояло
желтое лицо с редкими усами, и прищуренные глаза смотрели с удовольствием.
В груди ее черным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые
отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду.
Было холодно, в
стекла стучал дождь, казалось, что в ночи, вокруг дома ходят, подстерегая,
серые фигуры с широкими красными лицами без глаз, с длинными руками.
Ходят и чуть слышно звякают шпорами.
"Взяли бы и меня", - думала она.
Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он выл глухо, низко и
неуверенно. Отворилась дверь, вошел Рыбин. Он встал перед нею и, стирая
ладонью капли дождя с бороды, спросил:
- Увели?
- Увели, проклятые! - вздохнув, ответила она.
- Такое дело! -
сказал Рыбин, усмехнувшись. - И меня - обыскали, ощупали, да-а. Изругали...
Ну - не обидели однако. Увели, значит, Павла! Директор мигнул, жандарм
кивнул, и - нет человека? Они дружно живут. Одни народ доят, а другие
- за рога держат...
- Вам бы вступиться за Павла-то! - воскликнула мать, вставая. - Ведь
он ради всех пошел.
- Кому вступиться? - спросил Рыбин.
- Всем
- Ишь - ты! Нет, этого не случится.
Усмехаясь, он вышел
своей тяжелой походкой, увеличив горе матери суровой безнадежностью
своих слов.
"Вдруг - бить будут, пытать?.."
Она представляла себе тело сына, избитое, изорванное, в крови и страх
холодной глыбой ложился на грудь, давил ее. Глазам было больно.
Она не топила печь, не варила себе обед и не пила чая, только поздно
вечером съела кусок хлеба. И когда легла спать - ей думалось, что никогда
еще жизнь ее не была такой одинокой, голой. За последние годы она привыкла
жить в постоянном ожидании чего-то важного, доброго. Вокруг нее шумно
и бодро вертелась молодежь, и всегда перед нею стояло серьезное лицо
сына, творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и - ничего
нет.
Медленно прошел
день, бессонная ночь и еще более медленно другой день. Она ждала кого-то,
но никто не являлся. Наступил вечер. И - ночь. Вздыхал и шаркал по стене
холодный дождь, в трубе гудело, под полом возилось что-то. С крыши капала
вода, и унылый звук ее падения странно сливался со стуком часов. Казалось,
весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным, омертвело в тоске...
В окно тихо стукнули
- раз, два... Она привыкла к этим стукам, они не пугали ее, но теперь
вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла
ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь...
Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек, с лицом, закрытым воротником
пальто, в надвинутой на брови шапке.
- Разбудили мы вас? - не здороваясь, спросил Самойлов, против обыкновения
озабоченный и хмурый.
- Не спала я! - ответила она и молча, ожидающими глазами уставилась
на них.
Спутник Самойлова,
тяжело и хрипло вздыхая, снял шапку и, протянув матери широкую руку
с короткими пальцами, сказал ей дружески, как старой знакомой:
- Здравствуйте, мамаша! Не узнали?
- Это вы? - воскликнула Власова, вдруг чему-то радуясь. - Егор Иванович?
- Аз есмь! - ответил он, наклоняя свою большую голову с длинными, как
у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькие
серые глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был похож на
самовар, - такой же круглый, низенький, с толстой шеей и короткими руками.
Лицо лоснилось и блестело, дышал он шумно, и в груди все время что-то
булькало, хрипело...
- Пройдите в комнату,
я сейчас оденусь! - предложила мать.
- У нас к вам дело есть! - озабоченно сказал Самойлов, исподлобья взглянув
па нее.
Егор Иванович прошел в комнату и оттуда говорил:
Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай
Иванович...
Разве он там? - спросила мать.
Два месяца и одиннадцать дней. Видел там хохла - он кланяется вам, и
Павла, который - тоже кланяется, просит вас не беспокоиться и сказать
вам, что на пути его местом отдыха человеку всегда служит тюрьма - так
уж установлено заботливым начальством нашим. Затем, мамаша, я приступлю
к делу. Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера?
- Нет! А разве - кроме Паши? - воскликнула мать.
- Он - сорок девятый! - перебил ее Егор Иванович спокойно. - И надо
ждать, что начальство заберет еще человек с десяток! Вот этого господина
тоже...
- Да, и меня! - хмуро сказал Самойлов.
Власова почувствовала,
что ей стало легче дышать...
"Не один он там!" - мелькнуло у нее в голове.
Одевшись, она вошла в комнату и бодро улыбнулась гостю.
- Наверно, долго держать не будут, если так много забрали...
- Правильно! - сказал Егор Иванович. - А если мы ухитримся испортить
им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так:
если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки
уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла со товарищи,
иже с ним ввергнуты в узилище...
- Как же это? - тревожно крикнула мать.
- А очень просто! - мягко сказал Егор Иванович. - Иногда и жандармы
рассуждают правильно. Вы подумайте: был Павел - были книжки и бумажки,
нет Павла - нет ни книжек, ни бумажек! Значит, это он сеял книжечки,
ага-а? Ну, и начнут они есть всех, - жандармы любят так окорнать человека,
чтобы от него остались одни пустяки!
- Я понимаю, понимаю! - тоскливо сказала мать. - Ах, господи! Как же
теперь?
Из кухни раздался
голос Самойлова:
- Всех почти выловили, - черт их возьми!.. Теперь нам нужно дело
продолжать по-прежнему, не только для дела, - а и для спасения товарищей.
- А - работать некому! - добавил Егор, усмехаясь, - Литература у нас
есть превосходного качества, - сам делал!.. А как ее на фабрику внести
– сие неизвестно!
- Стали обыскивать всех в воротах! - сказал Самойлов. Мать чувствовала,
что от нее чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала:
- Ну, так что же? Как же? Самойлов встал в дверях и сказал:
- Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой...
- Знакома, ну?
- Поговорите с ней, не пронесет ли она? Мать отрицательно замахала руками.
- Ой, нет! Баба
она болтливая, - нет! Как узнают, что через меня, - из этого дома, -
нет, нет!
И вдруг, осененная внезапной мыслью, она тихо заговорила:
- Вы мне дайте, дайте - мне! Уж я устрою, я сама найду ход! Я Марью
же и попрошу, пусть она меня в помощницы возьмет! Мне хлеб есть надо,
работать надо же! Вот я и буду обеды туда носить! Уж я устроюсь!
Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что сделает все хорошо,
незаметно, и в заключение, торжествуя, воскликнула:
- Они увидят - Павла нет, а рука его даже из острога достигает, - они
увидят!
Все трое оживились.
Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил:
- Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превосходно! Прямо - очаровательно.
- Я в тюрьму, как в кресло сяду, если это удастся! - потирая руки, заметил
Самойлов.
- Вы - красавица! - хрипло кричал Егор.
Мать улыбнулась.
Ей было ясно: если теперь листки появятся на фабрике, - начальство должно
будет понять, что не ее сын распространяет их. И, чувствуя себя способной
исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости.
- Когда пойдете на свидание с Павлом, - говорил Егор, - скажите ему,
что у него хорошая мать...
- Я его раньше увижу! - усмехаясь, пообещал Самойлов.
- Вы так ему и скажите - я все, что надо, сделаю! Чтобы он знал это!..
- А если его не посадят? - спросил Егор, указывая на Самойлова.
- Ну - что же делать!
Они оба захохотали. И она, поняв свой промах, начала смеяться, тихо
и смущенно, немножко лукавя.
- За своим - чужое плохо видно! - сказала она, опустив глаза.
- Это - естественно! - воскликнул Егор. - А насчет Павла вы не беспокойтесь,
не грустите. Из тюрьмы он еще лучше воротится. Там отдыхаешь и учишься,
а на воле у нашего брата для этого времени нет. Я вот трижды сидел и
каждый раз, хотя и с небольшим удовольствием, но с несомненной пользой
для ума и сердца.
- Дышите вы тяжело!
- сказала она, дружелюбно глядя в его простое лицо.
- На это есть особые причины! - ответил он, подняв палец кверху. - Так,
значит, решено, мамаша? Завтра мы вам доставим материален, и снова завертится
пила разрушения вековой тьмы. Да здравствует свободное слово, и да здравствует
сердце матери! А пока - до свиданья!
- До свиданья! - сказал Самойлов, крепко пожимая руку ей. - А я вотсвоей
матери и заикнуться не могу ни о чем таком, - да!
- Все поймут! - сказала Власова, желая сделать приятное ему.
Когда они ушли,
она заперла дверь и, встав на колени среди комнаты, стала молиться под
шум дождя. Молилась без слов, одной большой думой о людях, которых ввел
Павел в ее жизнь. Они как бы проходили между нею и иконами, проходили
все такие простые, странно близкие друг другу и одинокие.
Рано утром она отправилась к Марье Корсуновой.
Торговка, как всегда
замасленная и шумная, встретила ее сочувственно.
- Тоскуешь? - спросила она, похлопав мать по плечу жирной рукой. - Брось!
Взяли, увезли, эка беда! Ничего худого тут нету. Это раньше было – за
кражи в тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павел, может,
и не так что-нибудь сказал, но он за всех встал - и все его понимают,
не беспокойся! Не все говорят, а все знают, кто хорош. Я все собиралась
зайти к тебе, да вот некогда. Стряпаю да торгую, а умру, видно, нищей.
Любовники меня одолевают, анафемы! Так и гложут, так и гложут, словно
тараканы каравай. Накопишь рублей десяток, явится какой-нибудь еретик
- и слижет деньги! Бедовое дело - бабой быть! Поганая должность на земле!
Одной жить трудно, вдвоем - нудно!
- А я к тебе в
помощницы проситься пришла! - сказала Власова, перебивая ее болтовню.
- Это как? - спросила Марья и, выслушав подругу, утвердительно кивнула
головой.
- Можно! Помнишь, ты меня, бывало, от мужа моего прятала? Ну, теперь
я тебя от нужды спрячу... Тебе все должны помочь, потому - твой сын
за общественное дело пропадает. Хороший парень он у тебя, это все говорят,
как одна душа, и все его жалеют. Я скажу - от арестов этих добра начальству
не будет, - ты погляди, что на фабрике делается? Нехорошо говорят, милая!
Они там, начальники, думают - укусили человека за пятку, далеко не уйдет!
Ан выходит так, что десяток ударили - сотни рассердились!
Разговор кончился
тем, что на другой день в обед Власова была на фабрике с двумя корчагами
Марьиной стряпни, а сама Марья пошла торговать на базар.
Рабочие сразу заметили
новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили:
- За дело взялась, Ниловна?
И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят, другие тревожили
ее печальное сердце словами соболезнования, третьи озлобленно ругали
директора, жандармов, находя в груди ее ответное эхо. Были люди, которые
смотрели на нее злорадно, а табельщик Исай Горбов сказал сквозь зубы:
- Кабы я был губернатором, я бы твоего сына - повесил! Не сбивай народ
с толку!
От этой злой угрозы
на нее повеяло мертвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю,
только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув,
опустила глаза в землю.
На фабрике было неспокойно, рабочие собирались кучками, о чем-то вполголоса
говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались
ругательства, раздраженный смех.
Двое полицейских
провели мимо нее Самойлова; он шел, сунув одну руку в карман, а другой
приглаживая свои рыжеватые волосы.
Его провожала толпа рабочих, человек в сотню, погоняя полицейских руганью
и насмешками.
- Гулять пошел, Гриша! - крикнул ему кто-то.
- Почет нашему брату! - поддержал другой. - Со стражей ходим...
И крепко выругался.
- Воров ловить,
видно, невыгодно стало! - зло и громко говорил высокий и кривой рабочий.
- Начали честных людей таскать...
- Хоть бы ночью таскали! - вторил кто-то из толпы. - А то днем - без
стыда, - сволочи!
Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть и будто не
слыша восклицаний, которыми провожали их. Встречу им трое рабочих несли
большую полосу железа и, направляя ее на них, кричали:
- Берегитесь, рыбаки!
Проходя мимо Власовой, Самойлов, усмехаясь, кивнул ей головой и сказал:
- Поволокли!
Она молча, низко
поклонилась ему, ее трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие
в тюрьму с улыбками на лицах; у нее возникала жалостливая любовь матери
к ним.
Воротясь с фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей в работе
и слушая ее болтовню, а поздно вечером пришла к себе в дом, где было
пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя
себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот уже скоро
ночь, а Егор Иванович не несет литературу, как он обещал.
За окном мелькали
тяжелые, серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стеклам, они
бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она
думала о сыне...
В дверь осторожно постучались, мать быстро подбежала, сняла крючок,
- вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось
ей в глаза, это неестественная полнота девушки.
- Здравствуйте! - сказала она, радуясь, что пришел человек и часть ночи
она проведет не в одиночестве. - Давно не видать было вас. Уезжали?
- Нет, я в тюрьме сидела! - ответила девушка улыбаясь. - Вместе с Николаем
Ивановичем, - помните его?
- Как же не помнить!
- воскликнула мать. - Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили,
а про вас я не знала... Никто и не сказал, что вы там...
- Да что же об этом говорить?.. Мне, - пока не пришел Егор Иванович,
- переодеться надо! - сказала девушка, оглядываясь.
- Мокрая вы вся...
- Я листовки и книжки принесла...
- Давайте, давайте! - заторопилась мать.
Девушка быстро
расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее, точно листья с дерева, посыпались
на пол, шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола и говорила:
- А я смотрю - полная вы такая, думала, замуж вышли, ребеночка ждете.
Ой-ой, сколько принесли! Неужели пешком?
- Да! - сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой,
как прежде. Мать видела, что щеки у нее ввалились, глаза стали огромными
и под ними легли темные пятна.
- Только что выпустили вас, - вам бы отдохнуть, а вы! - вздохнув и качая
головой, сказала мать.
- Нужно! - ответила девушка вздрагивая. - Скажите, как Павел Михайлович,
- ничего?.. Не очень взволновался?
Спрашивая, Сашенька
не смотрела на мать; наклонив голову, она поправляла волосы, и пальцы
ее дрожали.
- Ничего! - ответила мать. - Да ведь он себя не выдаст.
- Ведь у него крепкое здоровье? - тихо проговорила девушка.
- Не хворал, никогда! - ответила мать. - Дрожите вы вся. Вот я чаем
вас напою с вареньем малиновым.
- Это хорошо бы! Только стоит ли вам беспокоиться? Поздно. Давайте,
я сама...
- Усталая-то? - укоризненно отозвалась мать, принимаясь возиться около
самовара. Саша тоже вышла в кухню, села там на лавку и, закинув руки
за голову, заговорила:
- Все-таки, - ослабляет
тюрьма. Проклятое безделье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много
нужно работать, и - сидишь в клетке, как зверь...
- Кто вознаградит вас за все? - спросила мать. И, вздохнув, ответила
сама себе:
- Никто, кроме господа! Вы, поди-ка, тоже не верите в него?
- Нет! - кратко ответила девушка, качнув головой.
- А я вот вам не верю! - вдруг возбуждаясь, заявила мать. И, быстро
вытирая запачканные углем руки о фартук, она с глубоким убеждением продолжала:
- Не понимаете вы веры вашей! Как можно без веры в бога жить такою жизнью?
В сенях кто-то
громко затопал, заворчал, мать вздрогнула, девушка быстро вскочила и
торопливо зашептала:
- Не отпирайте! Если это - они, жандармы, вы меня не знаете!.. Я - ошиблась
домом, зашла к вам случайно, упала в обморок, вы меня раздели, нашли
книги, - понимаете?
- Милая вы моя, - зачем? - умиленно спросила мать.
- Подождите! - прислушиваясь, сказала Сашенька. - Это, кажется, Егор...
Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости.
- Ага! Самоварчик? - воскликнул он. - Это лучше всего в жизни, мамаша!
Вы уже здесь, Сашенька?
Наполняя маленькую
кухню хриплыми звуками, он медленно стаскивал тяжелое пальто и, не останавливаясь,
говорил:
- Вот, мамаша, девица, неприятная для начальства! Будучи обижена смотрителем
тюрьмы, она объявила ему, что уморит себя голодом, если он не извинится
перед ней, и восемь дней не кушала, по какой причине едва не протянула
ножки. Недурно? Животик-то у меня каков?
Болтая и поддерживая
короткими руками безобразно отвисший живот, он прошел в комнату, затворил
за собою дверь, но и там продолжал что-то говорить.
- Неужто восемь дней не кушали вы? - удивленно спросила мать.
- Нужно было, чтобы он извинился предо мной! - отвечала девушка, зябко
поводя плечами. Ее спокойствие и суровая настойчивость отозвались в
душе матери чем-то похожим на упрек.
"Вот как!.." - подумала она и снова спросила:
- А если бы умерли?
- Что же поделаешь! - тихо отозвалась девушка. - Он все-таки извинился.
Человек не должен прощать обиду.
- Да-а... - медленно отозвалась мать. - А вот нашу сестру всю жизнь
обижают...
- Я разгрузился! - объявил Егор, отворяя дверь. - Самоварчик готов?
Позвольте, я его втащу...
Он поднял самовар
и понес его, говоря:
- Собственноручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов
чаю, почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно семьдесят три
года. Имел он восемь пудов весу и был дьячком в селе Воскресенском...
- Вы отца Ивана сын? - воскликнула мать.
- Именно! А почему вам сие известно?
- Да я из Воскресенского!..
- Землячка? Чьих будете?
- Соседи ваши! Серегина я.
- Хромого Нила дочка? Лицо мне знакомое, ибо не однажды драл меня за
уши...
Они стояли друг
против друга и, осыпая один другого вопросами, смеялись. Сашенька, улыбаясь,
посмотрела на них и стала заваривать чай. Стук посуды возвратил мать
к настоящему.
- Ой, простите, заговорилась! Очень уж приятно земляка видеть...
- Это мне нужно просить прощения за то, что я тут распоряжаюсь! Но уж
одиннадцатый час, а мне далеко идти...
- Куда идти? В город? - удивленно спросила мать.
- Да.
- Что вы? Темно, мокро, - устали вы! Ночуйте здесь! Егор Иванович в
кухне ляжет, а мы с вами тут...
- Нет, я должна
идти! - просто заявила девушка.
- Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здесь знают. И
если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо! - заявил Егор.
- Как же она? Одна пойдет?..
- Пойдет! - сказал Егор усмехаясь. Девушка налила себе чаю, взяла кусок
ржаного хлеба, посолила и стала есть, задумчиво глядя на мать.
- Как это вы ходите? И вы, и Наташа? Я бы не пошла, - боязно! - сказала
Власова.
- Да и она боится!
- заметил Егор. - Вы боитесь, Саша?
- Конечно! - ответила девушка.
Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула:
- Какие вы... строгие!
Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла в кухню, а мать,
провожая ее, вышла за нею. В кухне Сашенька сказала:
- Увидите Павла Михайловича - передайте ему мой поклон! Пожалуйста!
А взявшись за скобу двери, вдруг обернулась, негромко спросив:
- Можно поцеловать вас?
Мать молча обняла
ее и горячо поцеловала.
- Спасибо! - тихо сказала девушка и, кивнув головой, ушла. Возвратись
в комнату, мать тревожно взглянула в окно. Во тьме тяжело падали мокрые
хлопья снега.
- А Прозоровых помните? - спросил Егор. Он сидел, широко расставив ноги,
и громко дул на стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, довольное.
- Помню, помню! - задумчиво сказала мать, боком подходя к столу. Села
и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула: - Ай-ай-яй!
Сашенька-то? Как она дойдет?
- Устанет! - согласился Егор. - Тюрьма ее сильно пошатнула, раньше девица
крепче была... К тому же воспитания она нежного... Кажется, - уже испортила
себе легкие...
- Кто она такая?
- тихо осведомилась мать.
- Дочь помещика одного. Отец - большой прохвост, как она говорит. Вам,
мамаша, известно, что они хотят пожениться?
- Кто?
- Она и Павел... Но - вот, все не удается, - он на воле, она в тюрьме,
и наоборот!
- Я этого не знала! - помолчав, ответила мать. - Паша о себе ничего
не говорит...
Теперь ей стало
еще больше жалко девушку, и, с невольной неприязнью взглянув на гостя,
она проговорила:
- Вам бы проводить ее!..
- Нельзя! - спокойно ответил Егор. - У меня здесь куча дела, и я с утра
должен буду целый день ходить, ходить, ходить. Занятие немилое, при
моей одышке...
- Хорошая она девушка, - неопределенно проговорила мать, думая о том,
что сообщил ей Егор. Ей было обидно услышать это не от сына, а от чужого
человека, и она плотно поджала губы, низко опустив брови.
- Хорошая! - кивнул головой Егор. - Вижу я - вам ее жалко. Напрасно!
У вас не хватит сердца, если вы начнете жалеть всех нас, крамольников.
Всем живется не очень легко, говоря правду. Вот недавно воротился из
ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний - жена и ребенок ждали
его в Смоленске, а когда он явился в Смоленск - они уже были в московской
тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный
человек, пять лет такой жизни свели ее в могилу...
Он залпом выпил
стакан чаю и продолжал рассказывать. Перечислял годы и месяцы тюремного
заключения, ссылки, сообщал о разных несчастиях, об избиениях в тюрьмах,
о голоде в Сибири. Мать смотрела на него, слушала и удивлялась, как
просто и спокойно он говорил об этой жизни, полной страданий, преследований,
издевательств над людьми...
- Но - поговоримте о деле!
Голос его изменился, лицо стало серьезнее. Он начал спрашивать ее, как
она думает пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому
знанию разных мелочей.
Кончив с этим,
они снова стали вспоминать о своем родном селе: он шутил, а она задумчиво
бродила в своем прошлом, и оно казалось ей странно похожим на болото,
однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой, пугливо дрожащей осиной,
невысокою елью и заплутавшимися среди кочек белыми березами. Березы
росли медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой почве, падали
и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей было нестерпимо жалко чего-то.
Перед нею стояла фигура девушки с резким, упрямым лицом. Она теперь
шла среди мокрых хлопьев снега, одинокая, усталая. А сын сидит в тюрьме.
Может быть, он не спит еще, думает... Но думает не о ней, о матери,
- у него есть человек ближе нее. Пестрой, спутанной тучей ползли на
нее тяжелые мысли и крепко обнимали сердце...
- Устали вы, мамаша!
Давайте-ка ляжем спать! - сказал Егор улыбаясь.
Она простилась с ним и боком, осторожно прошла в кухню, унося в сердце
едкое, горькое чувство.
Поутру, за чаем, Егор спросил ее:
- А если вас сцапают и спросят, откуда вы взяли все эти еретицкие книжки,
- вы что скажете?
- "Не ваше дело" - скажу! - ответила она.
- Они с этим ни за что не согласятся! - возразил Егор. - Они глубоко
убеждены, что это - именно их дело! И будут спрашивать усердно, долго!
- А я не скажу!
- А вас в тюрьму!
- Ну, что ж? Слава
богу - хоть на это гожусь! - сказала она вздыхая. - Кому я нужна? Никому.
А пытать не будут, говорят...
- Гм! - сказал Егор, внимательно посмотрев на нее. - Пытать - не будут.
Но хороший человек должен беречь себя...
- У вас этому не научишься! - ответила мать усмехаясь. Егор, помолчав,
прошелся по комнате, потом подошел к ней и сказал:
- Трудно, землячка! Чувствую я - очень трудно вам!
- Всем трудно! - махнув рукой, ответила она. - Может, только тем, которые
понимают, им - полегче... Но я тоже понемножку понимаю, чего хотят хорошие-то
люди...
- А коли вы это
понимаете, мамаша, значит, всем вы им нужны - всем! - серьезно сказал
Егор.
Она взглянула на него и молча усмехнулась.
В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала
это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щелкнул языком, заявив:
- Зер гут! как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас,
мамаша, не изменила литература: вы остались доброй пожилой женщиной,
полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание!..
Через полчаса,
согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот
фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали
всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский
и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая
коромысло с плеча на плечо, исподлобья следила за ним, чувствуя, что
это шпион.
Высокий, кудрявый
парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали
его:
- Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане! Один из сторожей ответил:
- У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...
- Вам и ловить вшей, а не ершей! - откликнулся рабочий. Шпион окинул
его быстрым взглядом и сплюнул.
- Меня-то пропустили бы! - попросила мать. - Видите, человек с ношей,
спина ломится!
- Иди, иди! - сердито крикнул сторож. - Рассуждает тоже... Мать дошла
до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась.
К ней тотчас же
подошли слесаря братья Гусевы, и старший, Василий, хмуря брови, громко
спросил:
- Пироги есть?
- Завтра принесу! - ответила она. Это был условленный пароль. Лица братьев
просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул:
- Эх ты, мать честная...
Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за
пазухой у него очутилась пачка листовок.
- Иван, - громко говорил он, - не пойдем домой, давай у нее обедать!
- А сам быстро засовывал книжки в голенища сапог. - Надо поддержать
новую торговку...
- Надо! - согласился Иван и захохотал. Мать, осторожно оглядываясь,
покрикивала:
- Щи, лапша горячая!
И, незаметно вынимая
книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда
книги исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном, точно
огонь спички в темной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно
со злорадным чувством говорила ему:
"На-ко тебе, батюшка..."
Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно: "На-ко..."
Подходили рабочие
с чашками в руках; когда они были близко, Иван Гусев начинал громко
хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу,
а Гусевы шутили над ней:
- Ловко действует Ниловна!
- Нужда заставит и мышей ловить! - угрюмо заметил какой-то кочегар.
- Кормильца-то - оторвали. Сволочи! Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего,
мать! Перебьешься.
- Спасибо на добром слове! - улыбнулась она ему. Он, уходя в сторону,
ворчал:
- Недорого мне стоит доброе-то слово... Власова покрикивала:
- Горячее - щи, лапша, похлебка...
И думала о том,
как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею все стояло желтое лицо
офицера, недоумевающее и злое. На нем растерянно шевелились черные усы
и из-под верхней, раздраженно вздернутой губы блестела белая кость крепко
сжатых зубов. В груди ее птицею пела радость, брови лукаво вздрагивали,
и она, ловко делая свое дело, приговаривала про себя:
- А вот - еще!..
Вечером, когда
она пила чай, за окном раздалось чмоканье лошадиных копыт по грязи и
прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню, к двери,
по сеням кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах, и, прислоняясь
к косяку, она толкнула дверь ногой.
- Добрый вечер, ненько! - раздался знакомый голос, и на плечи ее легли
сухие, длинные руки.
В сердце ее вспыхнули
тоска разочарования и - радость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались
в одно большое, жгучее чувство; оно обняло ее горячей волной, обняло,
подняло, и она ткнулась лицом в грудь Андрея. Он крепко сжал ее, руки
его дрожали, мать молча, тихо плакала, он гладил ее волосы и говорил,
точно пел:
- А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное слово говорю вам -
скоро его выпустят! Ничего у них нет против него, все ребята молчат,
как вареные рыбы...
Обняв плечи матери,
он ввел ее в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом белки
отирала с лица слезы и жадно, всей грудью, глотала его слова.
- Кланяется вам Павел, здоров и весел, как только может быть. Тесно
там! Народу - больше сотни нахватали, и наших и городских, в одной камере
по трое и по четверо сидят. Начальство тюремное ничего, хорошее, и устало
оно - так много задали работы ему чертовы жандармы! Так оно, начальство,
не очень строго командует, а все говорит: "Вы уж, господа, потише,
не подводите нас!" Ну, и все идет хорошо. Разговаривают, книги
друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма! Старая она, грязная,
а - мягкая такая, легкая.
Уголовные тоже славный
народ, помогают нам много. Выпустили меня, Букина и еще четырех. Скоро
и Павла выпустят, уж это верно! Дольше всех Весовщиков будет сидеть,
сердятся на него очень. Ругает он всех не уставая! Жандармы смотреть
на него не могут. Пожалуй, попадет он под суд или поколотят его однажды.
Павел уговаривает его: "Брось, Николай! Они ведь лучше не будут,
если ты обругаешь их!" А он ревет: "Сковырну их с земли, как
болячки!" Хорошо держится Павел, ровно, твердо. Скоро его выпустят,
говорю вам...
- Скоро! - сказала
мать, успокоенная и ласково улыбаясь. - Я знаю, скоро!
- Вот и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мне чаю, говорите, как
жили.
Он смотрел на нее, улыбаясь весь, такой близкий, славный, и в круглых
глазах светилась любовная, немного грустная искра.
- Очень я люблю вас, Андрюша! - глубоко вздохнув, сказала мать, разглядывая
его худое лицо, смешно поросшее темными кустиками волос.
- С меня немногого довольно. Я знаю, что вы меня любите, - вы всех можете
любить, сердце у вас большое! - покачиваясь на стуле, говорил хохол.
- Нет, вас я особенно люблю! - настаивала она. - Была бы у вас мать,
завидовали бы ей люди, что сын у нее такой...
Хохол качнул головой
и крепко потер ее обеими руками.
- Где-нибудь есть и у меня мать... - тихо сказал он.
- А знаете, что я сегодня сделала? - воскликнула она и торопливо, захлебываясь
от удовольствия, немножко прикрашивая, рассказала, как она пронесла
на фабрику литературу.
Он сначала удивленно расширил глаза, потом захохотал, двигая ногами,
колотил себя пальцами по голове и радостно кричал:
- Ого! Ну, - это не шутка! Это дело! Павел-то будет рад, а? Это - хорошо,
ненько! И для Павла и для всех!
Он с восхищением
щелкал пальцами, свистал и весь качался, блестел радостью и возбуждал
в ней сильный, полный отзвук.
- Милый вы мой, Андрюша! - заговорила она так, как будто у нее открылось
сердце и из него ручьем брызнули, играя, полные тихой радости слова.
- Думала я о своей жизни - господи Иисусе Христе! Ну, зачем я жила?
Побои... работа... ничего не видела, кроме мужа, ничего не знала, кроме
страха! И как рос Паша - не видела, и любила ли его, когда муж жив был,
- не знаю! Все заботы мои, все мысли были об одном - чтобы накормить
зверя своего вкусно, сытно, вовремя угодить ему, чтобы он не угрюмился,
не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы пожалел когда.
Бил он меня, точно не жену бьет, а - всех, на кого зло имеет. Двадцать
лет так жила, а что было до замужества - не помню! Вспоминаю - и, как
слепая, ничего не вижу! Был тут Егор Иванович - мы с ним из одного села,
говорит он и то и се, а я - дома помню, людей помню, а как люди жили,
что говорили, что у кого случилось - забыла! Пожары помню, - два пожара.
Видно, все из меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослепла, не
слышит...
Она перевела дыхание
и, жадно глотая воздух, как рыба, вытащенная из воды, наклонилась вперед
и продолжала, понизив голос:
- Помер муж, я схватилась за сына, - а он пошел по этим делам. Вот тут
плохо мне стало и жалко его... Пропадет, как я буду жить? Сколько страху,
тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбе...
Она замолчала и,
тихо качая головой, проговорила значительно:
- Нечистая она, наша бабья любовь!.. Любим мы то, что нам надо. А вот
смотрю я на вас, - о матери вы тоскуете, - зачем она вам? И все другие
люди за народ страдают, в тюрьмы идут и в Сибирь, умирают... Девушки
молодые ходят ночью, одни, по грязи, по снегу, в дождик, - идут семь
верст из города к нам. Кто их гонит, кто толкает? Любят они! Вот они
- чисто любят! Веруют! Веруют, Андрюша! А я - не умею так! Я люблю свое,
близкое!
- Вы можете! - сказал хохол и, отвернув от нее лицо, крепко, как всегда,
потер руками голову, щеку и глаза. - Все любят близкое, но - в большом
сердце и далекое - близко! Вы много можете. Велико у вас материнское...
- Дай господи!
- тихо сказала она. - Я ведь чувствую, - хорошо так жить! Вот я вас
люблю, - может, я вас люблю лучше, чем Пашу. Он - закрытый... Вот он
жениться хочет на Сашеньке, а мне, матери, не сказал про это...
- Неверно! - возразил хохол. - Я знаю это. Неверно. Он ее любит, и она
его - верно. А жениться - этого не будет, нет! Она бы хотела, да Павел
не хочет...
- Вот как? - задумчиво и тихо сказала мать, и глаза ее грустно остановились
на лице хохла. - Да. Вот как? Отказываются люди от себя...
- Павел - редкий человек! - тихонько произнес хохол. - Железный человек...
- Теперь вот -
сидит он в тюрьме! - вдумчиво продолжала мать. - Тревожно это, боязно,
а - не так уж! Вся жизнь не такая, и страх другой, - за всех тревожно.
И сердце другое, - душа глаза открыла, смотрит: грустно ей и радостно.
Не понимаю я многого, и так обидно, горько мне, что в господа бога не
веруете вы! Ну, это уж - ничего не поделаешь! Но вижу - хорошие вы люди,
да! И обрекли себя на жизнь трудную за народ, на тяжелую жизнь за правду.
Правду вашу я тоже поняла: покуда будут богатые - ничего не добьется
народ, ни правды, ни радости, ничего! Вот живу я среди вас, иной раз
ночью вспомнишь прежнее, силу мою, ногами затоптанную, молодое сердце
мое забитое - жалко мне себя, горько! Но все-таки лучше мне стало жить.
Все больше я сама себя вижу...
Хохол встал и,
стараясь не шаркать ногами, начал осторожно ходить по комнате, высокий,
худой, задумчивый.
- Хорошо сказали вы! - тихо воскликнул он. - Хорошо. Был в Керчи еврей
молоденький, писал он стихи и однажды написал такое:
И невинно убиенных - Сила правды воскресит!..
Его самого полиция там, в Керчи, убила, но это - не важно! Он правду
знал и много посеял ее в людях. Так вот вы - невинно убиенный человек...
- Говорю я теперь, - продолжала мать, - говорю, сама себя слушаю, -
сама себе не верю. Всю жизнь думала об одном - как бы обойти день стороной,
прожить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только? А теперь обо
всех думаю, может, и не так понимаю я дела ваши, а все мне - близкие,
всех жалко, для всех - хорошего хочется. А вам, Андрюша, - особенно!..
Он подошел к ней и сказал:
- Спасибо!
Взял ее руку в
свои, крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомленная
волнением, мать, не торопясь, мыла чашки и молчала, в груди у нее тихо
теплилось бодрое, греющее сердце чувство.
Хохол, расхаживая, говорил ей:
- Вот бы, ненько, Весовщикова приласкать вам однажды! Сидит у него отец
в тюрьме - поганенький такой старичок. Николай увидит его из окна и
ругает. Нехорошо это! Он добрый, Николай, - собак любит, мышей и всякую
тварь, а людей - не любит! Вот до чего можно испортить человека!
- Мать у него без вести пропала, отец - вор и пьяница, - задумчиво сказала
женщина.
Когда Андрей отправился
спать, мать незаметно перекрестила его, а когда он лег и прошло с полчаса
времени, она тихонько спросила:
- Не спите, Андрюша?
- Нет, - а что?
- Спокойной ночи!
- Спасибо, ненько, спасибо! - благодарно ответил он.
На следующий день,
когда Ниловна подошла со своей ношей к воротам фабрики, сторожа грубо
остановили ее и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно осмотрели
все.
- Простудите вы у меня кушанье! - спокойно заметила она, в то время
как они грубо ощупывали ее платье.
- Молчи! - угрюмо сказал сторож.
Другой, легонько толкнув ее в плечо, уверенно сказал:
- Я говорю - через забор бросают! К ней первым подошел старик Сизов
и, оглянувшись, негромко спросил:
- Слышала, мать?
- Что?
- Бумажки-то! Опять появились! Прямо - как соли на хлеб насыпали их
везде. Вот тебе и аресты и обыски! Мазина, племянника моего, в тюрьму
взяли - ну, и что же? Взяли сына твоего, - ведь вот, теперь видно, что
это не они!
Он собрал свою бороду в руку, посмотрел на нее и, отходя, сказал:
- Что не зайдешь ко мне? Чай, скучно одной-то...
Она поблагодарила
и, выкрикивая названия кушаний, зорко наблюдала за необычайным оживлением
на фабрике. Все были возбуждены, собирались, расходились, перебегали
из одного цеха в другой. В воздухе, полном копоти, чувствовалось веяние
чего-то бодрого, смелого. То здесь, то там раздавались одобрительные
восклицания, насмешливые возгласы. Пожилые рабочие осторожно усмехались.
Озабоченно расхаживало начальство, бегали полицейские, и, заметив их,
рабочие медленно расходились или, оставаясь на местах, прекращали разговор,
молча глядя в озлобленные, раздраженные лица.
Рабочие казались
все чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшего Гусева; уточкой
ходил его брат и хохотал.
Мимо матери не спеша прошел мастер столярного цеха Вавилов и табельщик
Исай. Маленький, щуплый табельщик, закинув голову кверху, согнул шею
налево и, глядя в неподвижное, надутое лицо мастера, быстро говорил,
тряся бородкой:
- Они, Иван Иванович, хохочут, - им это приятно, хотя дело касается
разрушения государства, как сказали господин директор. Тут, Иван Иванович,
не полоть, а пахать надо...
Вавилов шел, заложив
руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты...
- Ты там печатай, сукин сын, что хошь, - громко сказал он, - а про меня
- не смей!
Подошел Василий Гусев, заявляя:
- А я опять у тебя обедать буду, вкусно!
И, понизив голос, прищурив глаза, тихонько добавил:
- Попали метко... Эх, мамаша, очень хорошо!
Мать ласково кивнула
ему головой. Ей нравилось, что этот парень, первый озорник в слободке,
говоря с нею секретно, обращался на вы, нравилось общее возбуждение
на фабрике, и она думала про себя:
"А ведь - кабы не я..." Недалеко остановились трое чернорабочих,
и один негромко, с сожалением сказал:
- Нигде не нашел...
- А послушать надо бы! Я неграмотный, но вижу, что попало-таки им под
ребро!.. - заметил другой. Третий оглянулся и предложил:
- Идемте в котельную...
- Действует! - шепнул Гусев, подмигивая.
Ниловна пришла
домой веселая.
- Жалеют там люди, что неграмотные они! - сказала она Андрею. - А я
вот молодая умела читать, да забыла...
- Поучитесь! - предложил хохол.
- В мои-то годы? Зачем людей смешить...
Но Андрей взял с полки книгу и, указывая концом ножа на букву на обложке,
спросил:
- Это что?
- Рцы! - смеясь, ответила она.
- А это?
- Аз...
Ей было неловко
и обидно. Показалось, что глаза Андрея смеются над нею скрытым смехом,
и она избегала их взглядов. Но голос его звучал мягко и спокойно, лицо
было серьезно.
- Неужто вы, Андрюша, в самом деле думаете учить меня? - спросила она,
невольно усмехаясь.
- А что ж? - отозвался он. - Коли вы читали - легко вспомнить. Не будет
чуда - нет худа, а будет чудо - не худо!
- А то говорят: на образ взглянешь - свят не станешь!
- Э! - кивнув головой, сказал хохол. - Поговорок много. Меньше знаешь
- крепче спишь, чем неверно? Поговорками - желудок думает, он из них
уздечки для души плетет, чтобы лучше было править ею. А это какая буква?
- Люди! - сказала мать.
- Так! Вот они
как растопырились. Ну, а эта? Напрягая зрение, тяжело двигая бровями,
она с усилием вспоминала забытые буквы и, незаметно отдаваясь во власть
своих усилий, забылась. Но скоро у нее устали глаза.
Сначала явились слезы утомления, а потом часто закапали слезы грусти.
- Грамоте учусь! - всхлипнув, сказала она. - Сорок лет, а я только еще
грамоте учиться начала...
- Не надо плакать! - сказал хохол ласково и тихо. - Вы не могли жить
иначе, - а вот все ж таки понимаете, что жили плохо! Тысячи людей могут
лучше вас жить, - а живут как скоты, да еще хвастаются - хорошо живем!
А что в том хорошего - и сегодня человек поработал да поел и завтра
- поработал да поел, да так все годы свои - работает и ест? Между этим
делом народит детей себе и сначала забавляется ими, а как и они тоже
много есть начнут, он - сердится, ругает их - скорей, обжоры, растите,
работать пора! И хотел бы детей своих сделать домашним скотом, вот они
начинают работать для своего брюха, - и снова тянут жизнь, как вор мочало!
- Только те настоящие - люди, которые сбивают цепи с разума человека.
Вот теперь и вы, по силе вашей, за это взялись. - Ну, что я? - вздохнула
она. - Где мне?
- А - как же? Это
точно дождик - каждая капля зерно поит. А начнете вы читать...
Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате.
- Нет, вы учитесь!.. Павел придет, а вы - эгэ?
- Ах, Андрюша! - сказала мать. - Молодому все просто. А как поживешь,
- горя-то - много силы-то - мало, а ума - совсем нет...
Вечером хохол ушел,
она зажгла лампу и села к столу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно
прошлась по комнате, вышла в кухню, заперла дверь на крюк и, усиленно
двигая бровями, воротилась в комнату. Опустила занавески на окнах и,
взяв книгу с полки, снова села к столу, оглянулась, наклонилась над
книгой, губы ее зашевелились. Когда с улицы доносился шум, она, вздрогнув,
закрывала книгу ладонью, чутко прислушиваясь... И снова, то закрывая
глаза, то открывая их, шептала:
- Живете, иже - жи, земля, наш...
Постучались в дверь, мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила
тревожно:
- Кто там?
- Я...
Вошел Рыбин, солидно
погладил бороду и заметил:
- Раньше пускала без спросу людей. Одна? Так. А я думал - хохол дома.
Сегодня я его видел... Тюрьма человека не портит.
Сел и сказал матери:
- Давай-ка поговорим...
Он смотрел значительно, таинственно, внушая матери смутное беспокойство.
- Все стоит денег! - начал он своим тяжелым голосом, - Даром не родишься,
не умрешь, - вот. И книжки и листочки - стоят денег. Ты знаешь, откуда
деньги на книжки идут?
- Не знаю, - тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное.
- Так. Я тоже не знаю. Второе - книжки кто составляет?
Ученые...
Господа! - молвил Рыбин, и бородатое лицо напряглось, покраснело. -
Значит - господа книжки составляют, они раздают. А в книжках этих пишется
- против господ. Теперь, - скажи ты мне, - какая им польза тратить деньги
для того, чтобы народ против себя поднять, а?
Мать, мигнув глазами,
пугливо вскрикнула:
- Что ты думаешь?..
- Ага! - сказал Рыбин и заворочался на стуле медведем. - Вот. Я тоже,
как дошел до этой мысли, - холодно стало.
- Узнал что-нибудь?
- Обман! - ответил Рыбин. - Чувствую - обман. Ничего не знаю, а - есть
обман. Вот. Господа мудрят чего-то. А мне нужно правду. И я правду понял.
А с господами не пойду. Они, когда понадобится, толкнут меня вперед,
- да по моим костям, как по мосту, дальше зашагают...
Он точно связывал
сердце матери угрюмыми словами.
- Господи! - с тоской воскликнула мать. - Неужто Паша не понимает? И
все, которые...
Перед нею замелькали серьезные, честные лица Егора, Николая Ивановича,
Сашеньки, сердце у нее встрепенулось.
- Нет, нет! - заговорила она, отрицательно качая головой, - Не могу
поверить. Они - за совесть.
- Про кого говоришь? - задумчиво спросил Рыбин.
- Про всех... про всех до единого, кого видела!
- Не туда глядишь, мать, гляди дальше! - сказал Рыбин, опустив голову.
- Те, которые близко подошли к нам, они, может, сами ничего не знают.
Они верят - так надо! А может - за ними другие есть, которым - лишь
бы выгода была? Человек против себя зря не пойдет...
И, с тяжелым убеждением
крестьянина, он прибавил:
- Никогда ничего хорошего от господ не будет!
- Что ты надумал? - спросила мать, снова охваченная сомнением.
- Я? - Рыбин взглянул на нее, помолчал и повторил: - От господ надо
дальше. Вот.
Потом снова помолчал, угрюмый.
- Хотел я к парням пристегнуться, чтобы вместе с ними. Я в это дело
- гожусь, - знаю, что надо сказать людям. Вот. Ну, а теперь я уйду.
Не могу я верить, должен уйти.
Он опустил голову,
подумал.
- Пойду один по селам, по деревням. Буду бунтовать народ. Надо, чтобы
сам народ взялся. Если он поймет - он пути себе откроет. Вот я и буду
стараться, чтобы понял - нет у него надежды, кроме себя самого, нету
разума, кроме своего. Так-то!
Ей стало жаль его, она почувствовала страх за этого человека. Всегда
неприятный ей, теперь он как-то вдруг стал ближе; она тихо сказала:
- Поймают тебя...
Рыбин посмотрел
па нее и спокойно ответил:
- Поймают - выпустят. А я - опять...
- Сами же мужики свяжут. И будешь в тюрьме сидеть...
- Посижу - выйду. Опять пойду. А что до мужиков - раз свяжут, два, да
и поймут, - не вязать надо меня, а - слушать. Я скажу им: "Вы мне
не верьте, вы только слушайте". А будут слушать - поверят!
Он говорил медленно,
как бы ощупывая каждое слово, прежде чем сказать
его.
- Я тут, последнее время, много наглотался. Понял кое-что...
- Пропадешь, Михайло Иванович! - грустно качая головой, молвила она.
Темными, глубокими глазами он смотрел на нее, спрашивая и ожидая. Его
крепкое тело нагнулось вперед, руки упирались в сиденье стула, смуглое
лицо казалось бледным в черной раме бороды.
- А слыхала, как Христос про зерно сказал? Не умрешь - не воскреснешь
в новом колосе. До смерти мне далеко. Я - хитрый!
Он завозился на
стуле и не спеша встал.
- Пойду в трактир, посижу там на людях. Хохол что-то нейдет. Начал хлопотать?
- Да! - сказала мать улыбаясь.
- Так и надо. Ты ему скажи про меня. Они медленно пошли плечо к плечу
в кухню и, не глядя друг на друга, перекидывались краткими словами.
- Ну, прощай!
- Прощай. Когда расчет берешь?..
- Взял.
- А когда уходишь?
- Завтра. Рано утром. Прощай!
Рыбин согнулся
и неохотно, неуклюже вылез в сени. Мать с минуту стояла перед дверью,
прислушиваясь к тяжелым шагам и сомнениям, разбуженным в ее груди. Потом
тихо повернулась, прошла в комнату и, приподняв занавеску, посмотрела
в окно. За стеклом неподвижно стояла черная тьма.
"Ночью живу!" - подумала она.
Ей было жалко степенного мужика - он такой широкий, сильный.
Пришел Андрей, оживленный и веселый. Когда она рассказала ему о Рыбине,
он воскликнул:
- Ну, и пускай ходит по деревням, звонит о правде, будит народ. С нами
трудно ему. У него в голове свои, мужицкие мысли выросли, нашим - тесно
там...
- Вот - о господах говорил он, - есть тут что-то! - осторожно заметила
мать. - Не обманули бы!
- Задевает? - смеясь, вскричал хохол. - Эх, ненько, деньги! Были бы
они у нас! Мы еще все на чужой счет живем. Вот Николай Иванович получает
семьдесят пять рублей в месяц - нам пятьдесят отдает. Так же и другие.
Да голодные студенты иной раз пришлют немного, собрав по копейкам. А
господа, конечно, разные бывают. Одни - обманут, другие - отстанут,
а с нами – самые лучшие пойдут...
Он хлопнул руками
и крепко продолжал:
- До нашего праздника - орел не долетит, а все-таки вот мы первого мая
небольшой устроим! Весело будет!
Его оживление отталкивало тревогу, посеянную Рыбиным. Хохол ходил по
комнате, потирая рукой голову, и, глядя в пол, говорил:
- Знаете, иногда такое живет в сердце, - удивительное! Кажется, везде,
куда ты ни придешь, - товарищи, все горят одним огнем, все веселые,
добрые, славные. Без слов друг друга понимают... Живут все хором, а
каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи, бегут - льются
в одну реку, и течет река широко и свободно в море светлых радостей
новой жизни.
Мать старалась
не двигаться, чтобы не помешать ему, не прерывать его речи. Она слушала
его всегда с большим вниманием, чем других, - он говорил проще всех,
и его слова сильнее трогали сердце. Павел никогда не говорил о том,
что видит впереди. А этот, казалось ей, всегда был там частью своего
сердца, в его речах звучала сказка о будущем празднике для всех на земле.
Эта сказка освещала для матери смысл жизни и работы ее сына и всех товарищей
его.
- А очнешься, - говорил хохол, встряхнув головой, - поглядишь кругом
- холодно и грязно! Все устали, обозлились...
С глубокой печалью
он продолжал:
- Обидно это, - а надо не верить человеку, надо бояться его и даже -
ненавидеть! Двоится человек. Ты бы - только любить хотел, а как это
можно? Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идет, не
признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твое? Нельзя
прощать! Не за себя нельзя, - я за себя все обиды снесу, - но потакать
насильщикам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других бить учились.
Теперь глаза у
него вспыхнули холодным огнем, он упрямо наклонил голову и говорил тверже:
- Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно.
Я - не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только
посмеюсь над обидой, не уколет она меня, - а завтра, испытав на мне
свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать. И приходится на людей
смотреть разно, приходится держать сердце строго, разбирать людей: это
- свои, это - чужие. Справедливо - а не утешает!
Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала:
- Уж какие хлебы из несеяной муки!..
Тут и горе! - воскликнул хохол.
Да-а! - сказала мать. В памяти ее теперь встала фигура мужа, угрюмая,
тяжелая, точно большой камень, поросший мохом. Она представила себе
хохла мужем Наташи и сына женатым на Сашеньке.
- А отчего? - спросил хохол загораясь. - Это так хорошо видно, что даже
смешно. Оттого только, что неровно люди стоят. Так давайте же поровняем
всех! Разделим поровну все, что сделано разумом, все, что сработано
руками! Не будем держать друг друга в рабстве страха и зависти, в плену
жадности и глупости!..
Они часто стали
говорить так.
Находку снова приняли на фабрику, он отдавал ей весь свой заработок,
и она брала эти деньги так же спокойно, как принимала их из рук Павла.
Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах:
- Почитаем, ненько, а?
Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее смущала эта улыбка, и, немножко
обижаясь, она думала:
"Если ты смеешься, - так зачем же?"
И все чаще спрашивала его, что значит то или другое книжное слово, чуждое
ей. Спрашивая, она смотрела в сторону, голос ее звучал безразлично.
Он догадался, что она потихоньку учится сама, понял ее стыдливость и
перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она заявила ему:
- Глаза у меня слабеют, Андрюша. Очки бы надо.
- Дело! - отозвался он. - Вот в воскресенье пойду с вами в город, покажу
вас доктору, и будут очки...
Она уже трижды
ходила просить свидания с Павлом, и каждый раз жандармский генерал,
седой старичок с багровыми щеками и большим носом, ласково отказывал
ей.
- Через недельку, матушка, не раньше! Через недельку - мы посмотрим,
- а сейчас - невозможно...
Он был круглый,
сытенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую
пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах острой желтой
палочкой, его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались, голос
звучал любезно, дружески.
- Вежливый! - вдумчиво говорила она хохлу. - Все улыбается...
- Да, да! - сказал хохол. - Они - ничего, ласковые, улыбаются. Им скажут:
"А ну, вот это умный и честный человек, он опасен нам, повесьте-ка
его!" Они улыбнутся и повесят, а потом - опять улыбаться будут.
- Тот, который у нас с обыском был, он проще, - сопоставляла мать. -
Сразу видно, что собака...
- Все они - не люди, а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты.
Ими обделывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны
удобными для управляющей нами руки - могут работать все, что их заставят,
не думая, не спрашивая, зачем это нужно.
Наконец ей дали
свидание, и в воскресенье она скромно сидела в углу тюремной канцелярии.
Кроме нее, в тесной и грязной комнате с низким потолком было еще несколько
человек, ожидавших свиданий. Должно быть, они уже не в первый раз были
здесь и знали друг друга; между ними лениво и медленно сплетался тихий
и липкий, как паутина, разговор.
- Слышали? - говорила
полная женщина с дряблым лицом и саквояжем на коленях. - Сегодня за
ранней обедней соборный регент мальчику певчему ухо надорвал...
Пожилой человек в мундире отставного военного громко откашлялся и заметил:
- Певчие - сорванцы!
По канцелярии суетливо бегал низенький лысый человечек на коротких ногах,
с длинными руками и выдвинутой вперед челюстью. Не останавливаясь, он
говорил тревожным и трескучим голосом:
- Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт
- четырнадцать копеек фунт, хлеб опять стал две с половиной...
Порою входили арестанты,
серые, однообразные, в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную
комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы.
Все было странно
спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издавна привыкли, сжились
со своим положением; одни - спокойно сидят, другие - лениво караулят,
третьи - аккуратно и устало посещают заключенных. Сердце матери дрожало
дрожью нетерпения, она недоуменно смотрела на все вокруг, удивленная
этой тяжелой простотой.
Рядом с Власовой
сидела маленькая старушка, лицо у нее было сморщенное, а глаза молодые.
Повертывая тонкую шею, она вслушивалась в разговор и смотрела на всех
странно задорно.
- У вас кто здесь? - тихо спросила ее Власова.
- Сын. Студент, - ответила старушка громко и быстро. - А у вас?
- Тоже сын. Рабочий.
- Как фамилия? - Власов.
- Не слыхала. Давно сидит?
- Седьмую неделю...
- А мой - десятый месяц! - сказала старушка, и в голосе ее Власова почувствовала
что-то странное, похожее на гордость.
- Да, да! - быстро говорил лысый старичок. - Терпение исчезает... Все
раздражаются, все кричат, все возрастает в цене. А люди, сообразно сему,
дешевеют. Примиряющих голосов не слышно.
- Совершенно верно! - сказал военный. - Безобразие! Нужно, чтобы раздался
наконец твердый голос - молчать! Вот что нужно. Твердый голос.
Разговор стал общим,
оживленным. Каждый торопился сказать свое мнение о жизни, но все говорили
вполголоса, и во всех мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили
иначе, понятнее, проще и громче.
Толстый надзиратель
с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы
и, прихрамывая, пошел, сказав ей:
- Иди за мной...
Она шагала, и ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шел
быстрее. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку.
Мать схватила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя слов,
тихо говорила:
- Здравствуй... здравствуй...
- Да ты успокойся, мама! - пожимая ее руку, говорил Павел.
- Ничего.
- Мать! - вздохнув, сказал надзиратель. - Между прочим, разойдитесь,
- чтобы между вами было расстояние...
И громко зевнул.
Павел спрашивал ее о здоровье, о доме... Она ждала каких-то других вопросов,
искала их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был спокоен,
только лицо побледнело да глаза как будто стали больше.
- Саша кланяется! - сказала она. У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче,
он улыбнулся. Острая горечь щипнула сердце матери.
- Скоро ли выпустят они тебя! - заговорила она с обидой и раздражением.
- За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились...
Глаза у Павла радостно
блеснули.
- Опять? - быстро спросил он.
- Об этих делах запрещено говорить! - лениво заявил надзиратель. - Можно
только о семейном...
- А это разве не семейное? - возразила мать.
- Уж я не знаю. Только - запрещается, - равнодушно настаивал надзиратель.
- Говори, мама, о семейном, - сказал Павел. - Что ты делаешь?
Она, чувствуя в
себе какой-то молодой задор, ответила:
- Ношу на фабрику все это... Остановилась и, улыбаясь, продолжала:
- Щи, кашу, всякую Марьину стряпню и прочую пищу - Павел понял. Лицо
у него задрожало от сдерживаемого смеха, он взбил волосы и ласково,
голосом, какого она еще не слышала от него, сказал:
- Хорошо, что у тебя дело есть, - не скучаешь!
- А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали! - не
без хвастовства заявила она.
- Опять про это!
- сказал надзиратель, обижаясь. - Я говорю - нельзя! Человека лишили
воли, чтобы он ничего не знал, а ты - свое! Надо понимать, чего нельзя.
- Ну, оставь, мама! - сказал Павел. - Матвей Иванович хороший человек,
не надо его сердить. Мы с ним живем дружно. Он сегодня случайно при
свидании - обыкновенно присутствует помощник начальника.
- Окончилось свидание!
- заявил надзиратель, глядя на часы.
- Ну, спасибо, мама! - сказал Павел. - Спасибо, голубушка. Ты - не беспокойся.
Скоро меня выпустят...
Он крепко обнял ее, поцеловал, и, растроганная этим, счастливая, она
заплакала.
- Расходитесь! - сказал надзиратель и, провожая мать, забормотал: -
Не плачь, - выпустят! Всех выпускают... Тесно стало...
Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями:
- Ловко я ему сказала, - понял он!
И грустно вздохнула.
- Понял! А то бы
не приласкал бы, - никогда он этого не делал!
- Эх, вы! - засмеялся хохол. - Кто чего ищет, а мать - всегда ласки...
- Нет, Андрюша, - люди-то, я говорю! - вдруг с удивлением воскликнула
она. - Ведь как привыкли! Оторвали от них детей, посадили в тюрьму,
а они ничего, пришли, сидят, ждут, разговаривают, - а? Уж если образованные
так привыкают, что же говорить о черном-то народе?..
- Это понятно, - сказал хохол со своей усмешкой, - к ним закон все-таки
ласковее, чем к нам, и нужды они в нем имеют больше, чем мы. Так что,
когда он их по лбу стукает, они хоть и морщатся, да не очень. Своя палка
- легче бьет...
Однажды
вечером мать сидела у стола, вязала носки, а хохол читал вслух книгу
о восстании римских рабов; кто-то сильно постучался, и, когда хохол
отпер дверь, вошел Весовщиков с узелком под мышкой, в шапке, сдвинутой
на затылок, по колена забрызганный грязью.
- Иду - вижу у вас огонь. Зашел поздороваться. Прямо из тюрьмы! - объявил
он странным голосом и, схватив руку Власовой, сильно потряс ее, говоря:
- Павел кланяется...
Потом, нерешительно опустившись на стул, обвел комнату своим сумрачным,
подозрительным взглядом.
Он не нравился матери, в его угловатой стриженой голове, в маленьких
глазах было что-то всегда пугавшее ее, но теперь она обрадовалась и,
ласковая, улыбаясь, оживленно говорила:
- Осунулся ты! Андрюша, напоим его чаем...
- А я уже ставлю самовар! - отозвался хохол из кухни.
- Ну, как Павел-то? Еще кого выпустили или только тебя? Николай опустил
голову и ответил:
- Павел сидит, - терпит! Выпустили одного меня! - Он поднял глаза в
лицо матери и медленно, сквозь зубы, проговорил: - Я им сказал - будет,
пустите меня на волю!.. А то я убью кого-нибудь, и себя тоже. Выпустили.
- М-м-да-а! - сказала мать, отодвигаясь от него, и невольно мигнула,
когда взгляд ее встретился с его узкими, острыми глазами.
- А как Федя Мазин? - крикнул хохол из кухни. - Стихи пишет?
- Пишет. Я этого не понимаю! - покачав головой, сказал Николай. – Что
он - чиж? Посадили в клетку - поет! Я вот одно понимаю - домой мне идти
не хочется...
- Да что там, дома-то, у тебя? - задумчиво сказала мать. - Пусто, печь
не топлена, настыло все...
Он помолчал, прищурив глаза. Вынул из. кармана коробку папирос, не торопясь
закурил и, глядя на серый клуб дыма, таявший перед его лицом, усмехнулся
усмешкой угрюмой собаки.
- Да, холодно, должно быть. На полу мерзлые тараканы валяются. И мыши
тоже померзли. Ты, Пелагея Ниловна, позволь мне у тебя ночевать, - можно?
- глухо спросил он, не глядя на нее.
- А конечно, батюшка! - быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно
с ним.
- Теперь такое время, что дети стыдятся родителей...
- Чего? - вздрогнув, спросила мать.
Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его рябое лицо стало слепым.
- Дети начали стыдиться родителей, говорю! - повторил он и шумно вздохнул.
- Тебя Павел не постыдится никогда. А я вот стыжусь отца. И в дом этот
его... не пойду я больше. Нет у меня отца... и дома нет! Отдали меня
под надзор полиции, а то я ушел бы в Сибирь... Я бы там ссыльных освобождал,
устраивал бы побеги им...
Чутким сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело, но его боль
не возбуждала в ней сострадания.
- Да, уж если так... то лучше уйти! - говорила она, чтобы не обидеть
его молчанием.
Из кухни вышел Андрей и, смеясь, сказал:
- Что ты проповедуешь, а?
Мать
встала, говоря:
- Надо поесть чего-нибудь приготовить...
Весовщиков пристально посмотрел на хохла и вдруг заявил:
- Я так полагаю, что некоторых людей надо убивать!
- Угу! А для чего? - спросил хохол.
- Чтобы их не было...
Хохол, высокий и сухой, покачиваясь на ногах, стоял среди комнаты и
смотрел на Николая сверху вниз, сунув руки в карманы, а Николай крепко
сидел на стуле, окруженный облаками дыма, и на его сером лице выступили
красные пятна.
- Исаю Горбову я башку оторву, - увидишь!
- За что? - спросил хохол.
- Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб, через него он теперь
в сыщики метит, - с угрюмой враждебностью глядя на Андрея, говорил Весовщиков.
- Вот что! - воскликнул хохол. - Но - тебя за это кто обвинит? Дураки!..
- И дураки и умники - одним миром мазаны! - твердо сказал Николай. -
Вот ты умник и Павел тоже, - а я для вас разве такой же человек, как
Федька Мазин, или Самойлов, или оба вы друг для друга? Не ври, я не
поверю, все равно... и все вы отодвигаете меня в сторону, на отдельное
место...
- Болит у тебя душа, Николай! - тихо и ласково сказал хохол, садясь
рядом с ним.
- Болит. И у вас - болит... Только - ваши болячки кажутся вам благороднее
моих. Все мы сволочи друг другу, вот что я скажу. А что ты мне можешь
сказать? Ну-ка?
Он уставился острыми глазами в лицо Андрея и ждал, оскалив зубы. Его
пестрое лицо было неподвижно, а по толстым губам пробегала дрожь, точно
он ожег их чем-то горячим.
- Ничего я тебе не скажу! - заговорил хохол, тепло лаская враждебный
взгляд Весовщикова грустной улыбкой голубых глаз. - Я знаю - спорить
с человеком в такой час, когда у него в сердце все царапины кровью сочатся,
- это только обижать его; я знаю, брат!
- Со мной нельзя спорить, я не умею! - пробормотал Николай, опуская
глаза.
- Я думаю, - продолжал хохол, - каждый из нас ходил голыми ногами по
битому стеклу, каждый в свой темный час дышал вот так, как ты...
- Ничего ты не можешь мне сказать! - медленно проговорил Весовщиков.
- У меня душа волком воет!..
- И не хочу! Только я знаю - это пройдет у тебя. Может, не совсем, а
пройдет!
Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по плечу:
- Это, брат, детская болезнь, вроде кори. Все мы ею болеем, сильные
- поменьше, слабые - побольше. Она тогда одолевает вашего брата, когда
человек себя - найдет, а жизни и своего места в ней еще не видит. Кажется
тебе, что ты один на земле такой хороший огурчик и все съесть тебя хотят.
Потом, пройдет немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей
души и в других грудях не хуже - тебе станет легче. И немножко совестно
- зачем на колокольню лез, когда твой колокольчик такой маленький, что
и не слышно его во время праздничного звона? Дальше увидишь, что твой
звон в хору слышен, а в одиночку - старые колокола топят его в своем
гуле, как муху в масле. Ты понимаешь, что я говорю?
- Может быть - понимаю! - кивнув головой, сказал Николай. - Только я
- не верю!
Хохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забегал.
- Вот и я тоже не верил. Ах ты, - воз!
- Почему - воз? - сумрачно усмехнулся Николай, глядя на хохла.
- А - похож.
Вдруг Весовщиков громко засмеялся, широко открыв рот.
- Что ты? - удивленно спросил хохол, остановившись против него.
- А я подумал - вот дурак будет тот, кто тебя обидит! - заявил Николай,
двигая головой.
- Да чем меня обидишь? - произнес хохол, пожимая плечами.
- Я не знаю! - сказал Весовщиков, добродушно или снисходительно оскаливая
зубы. - Я только про то, что очень уж совестно должно быть человеку
после того, как он обидит тебя.
- Вот куда тебя бросило! - смеясь, сказал хохол.
- Андрюша! - позвала мать из кухни.
Андрей ушел.
Оставшись один, Весовщиков оглянулся, вытянул ногу, одетую в тяжелый
сапог, посмотрел на нее, наклонился, пощупал руками толстую икру. Поднял
руку к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул тылом. Рука
была толстая, с короткими пальцами, покрыта желтой шерстью. Он помахал
ею в воздухе, встал.
Когда Андрей внес самовар, Весовщиков стоял перед зеркалом и встретил
его такими словами:
Давно я рожи своей не видал... Ухмыльнулся и, качая головой, добавил:
Скверная у меня рожа!
А что тебе до этого? - спросил Андрей, любопытно взглянув на него.
А вот Сашенька говорит - лицо зеркало души! - медленно выговорил Николай.
И неверно! - воскликнул хохол. - У нее нос - крючком, скулы - ножницами,
а душа - как звезда.
Весовщиков взглянул па него и усмехнулся.
Сели пить чай.
Весовщиков взял большую картофелину, круто посолил кусок хлеба и спокойно,
медленно, как вол, начал жевать.
- А как тут дела? - спросил он с набитым ртом. И, когда Андрей весело
рассказал ему о росте пропаганды на фабрике, он, снова сумрачный, глухо
заметил:
- Долго все это, долго! Скорее надо... Мать посмотрела на него, и в
ее груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку.
- Жизнь не лошадь, ее кнутом не побьешь! - сказал Андрей.
Весовщиков упрямо тряхнул головой:
- Долго! Не хватает у меня терпенья! Что мне делать? Он беспомощно развел
руками, глядя в лицо хохла, и замолчал, ожидая ответа.
- Всем нам нужно учиться и учить других, вот наше дело! - проговорил
Андрей, опуская голову. Весовщиков спросил:
- А когда драться будем?
- До того времени нас не однажды побьют, это я знаю! - усмехаясь, ответил
хохол. - А когда нам придется воевать - не знаю! Прежде, видишь ты,
надо голову вооружить, а потом руки, думаю я...
Николай снова начал есть. Мать исподлобья незаметно рассматривала его
широкое лицо, стараясь найти в нем что-нибудь, что помирило бы ее с
тяжелой, квадратной фигурой Весовщикова.
И, встречая колющий взгляд маленьких глаз, она робко двигала бровями.
Андрей вел себя беспокойно, - вдруг начинал говорить, смеялся и, внезапно
обрывая речь, свистал.
Матери казалось, что она понимает его тревогу. А Николай сидел молча,
и, когда хохол спрашивал его о чем-либо, он отвечал кратко, с явной
неохотой.
В маленькой комнатке двум ее жителям становилось душно, тесно, и они,
то одна, то другой, мельком взглядывали на гостя.
Наконец он сказал, вставая:
- Я бы спать лег. А то сидел, сидел, вдруг пустили, пошел. Устал.
Когда он ушел в кухню и, повозившись немного, вдруг точно умер там,
мать, прислушавшись к тишине, шепнула Андрею:
- О страшном он думает...
- Тяжелый парень! - согласился хохол, качая головой. - Но это пройдет!
Это у меня было. Когда неярко в сердце горит - много сажи в нем накопляется.
Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, почитаю еще.
Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая ситцевым пологом, и Андрей,
сидя у стола, долго слышал теплый шелест ее молитв и вздохов. Быстро
перекидывая страницы книги, он возбужденно потирал лоб, крутил усы длинными
пальцами, шаркал ногами. Стучал маятник часов, за окном вздыхал ветер.
Раздался тихий голос матери:
- О, господи! Сколько людей на свете, и всяк по-своему стонет. А где
же те, которым радостно?
- Есть уже и такие, есть! Скоро - много будет их, - эх, много! - отозвался
хохол.
Жизнь текла быстро,
дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое,
и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые
люди, озабоченно, вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв
воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно,
бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение, казалось -
все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились.
Одни насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности,
третьи задумчиво тихие - все они имели в глазах матери что-то одинаково
настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо - для нее все
лица сливались в одно: худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким
взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути
в Эммаус.
Мать считала их,
мысленно собирая толпой вокруг Павла, - в этой толпе он становился незаметным
для глаз врагов.
Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка, она принесла для
Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми
глазами:
- До свиданья, товарищ!
- Прощайте! - сдержав улыбку, ответила мать. А проводив девочку, подошла
к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семеня маленькими ножками,
шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка.
- Товарищ! - сказала
мать, когда гостья исчезла. - Эх ты, милая! Дай тебе, господи, товарища
честного на всю твою жизнь!
Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно
усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой
она чувствовала все яснее, ее ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости,
- слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала
ее их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе.
Она уже многое
понимала из того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли
верный источник несчастья всех людей, и привыкла соглашаться с их мыслями.
Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему
и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ.
Каждый хочет быть
сытым сегодня, никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если
может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой,
немного глаз увидят в конце ее сказочное царство братства людей.
Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и, порою,
усталые лица, казались ей детьми.
"Милые вы
мои!" - думала она, покачивая головой.
Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, говорили
о добром и, желая научить людей тому, что знали, делали это, не щадя
себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасность,
и, вздыхая, оглядывалась назад, где темной узкой полосой плоско тянулось
ее прошлое. У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности
для этой новой жизни, - раньше она никогда не чувствовала себя нужной
кому-нибудь, а теперь ясно видела, что нужна многим, это было ново,
приятно и приподняло ей голову...
Она аккуратно носила
на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала
привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз ее обыскивали,
но всегда - на другой день после того, как листки появлялись на фабрике.
Когда с нею ничего не было, она умела возбудить подозрение сыщиков и
сторожей, они хватали ее, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила
с ними и, пристыдив, уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта
игра.
Весовщикова на
фабрику не приняли, он поступил в работники к торговцу лесом и возил
по слободке бревна, тес и дрова. Мать почти каждый день видела его:
круто упираясь дрожащими от натуги ногами в землю, шла пара вороных
лошадей, обе они были старые, костлявые, головы их устало и печально
качались, тусклые глаза измученно мигали. За ними тянулось, вздрагивая,
длинное, мокрое бревно или груда досок, громко хлопая концами, а сбоку,
опустив вожжи, шагал Николай, оборванный, грязный, в тяжелых сапогах,
в шапке на затылок, неуклюжий, точно пень, вывороченный из земли. Он
тоже качает головой, глядя себе под ноги. Его лошади слепо наезжают
на встречные телеги, на людей, около него вьются, как шмели, сердитые
ругательства, режут воздух злые окрики. Он, не поднимая головы, не отвечая
им, свистит резким, оглушающим свистом и глухо бормочет лошадям:
- Ну, бери!
Каждый раз, когда
у Андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты
или брошюры, приходил и Николай, садился в угол и молча слушал час,
два. Кончив чтение, молодежь долго спорила, но Весовщиков не принимал
участия в спорах. Он оставался дольше всех и один на один с Андреем
ставил ему угрюмый вопрос:
- А кто всех виноватее?
- Виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал - это мое! Человек этот
помер несколько тысяч лет тому назад, и на него, сердиться не стоит!
– шутя говорил хохол, но глаза его смотрели беспокойно.
- А - богатые? А те, которые за них стоят?
Хохол хватался
за голову, дергал усы и долго говорил простыми словами о жизни и людях.
Но у него всегда выходило так, как будто виноваты все люди вообще, и
это не удовлетворяло Николая. Плотно сжав толстые губы, он отрицательно
качал головой и, недоверчиво заявляя, что это не так, уходил недовольный
и мрачный.
Однажды он сказал:
- Нет, виноватые должны быть, - они тут! Я тебе скажу - нам надо всю
жизнь перепахать, как сорное поле, - без пощады!
- Вот так однажды Исай-табельщик про вас говорил! - вспомнила мать.
- Исай? - спросил Весовщиков, помолчав.
- Да. Злой человек! Подсматривает за всеми, выспрашивает, по нашей улице
стал ходить, в окна к нам заглядывать...
- Заглядывает? - повторил Николай.
Мать уже лежала
в постели и не видела его лица, но она поняла, что сказала что-то лишнее,
потому что хохол торопливо и примирительно заговорил:
- А пускай его ходит и заглядывает! Есть у него свободное время - он
и
гуляет...
- Нет, погоди! - глухо сказал Николай. - Вот он, виноватый!
- В чем? - быстро спросил хохол. - Что он глуп?
Весовщиков, не ответив, ушел.
Хохол медленно
и устало шагал по комнате, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги
он снял, - всегда делая это, чтобы не стучать и не беспокоить Власову.
Но она не спала и, когда Николай ушел, сказала тревожно:
- Боюсь я его!
- Да-а! - медленно протянул хохол. - Мальчик сердитый. Вы, ненько, про
Исая с ним не говорите, этот Исай действительно шпионит.
- Что мудреного! У него кум - жандарм! - заметила мать.
- Пожалуй, поколотит его Николай! - с опасением продолжал хохол. – Вот
видите, какие чувства воспитали господа командиры нашей жизни у нижних
чинов? Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся
из терпенья - что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней,
как мыло, вспенится...
- Страшно, Андрюша!
- тихо воскликнула мать.
- Не глотали бы мух, так не вырвало бы! - помолчав, сказал Андрей. –
И все-таки, ненько, каждая капля их крови заранее омыта озерами народных
слез...
Он вдруг тихо засмеялся и добавил:
- Справедливо, но - не утешает!
Однажды в праздник
мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая
радостью, точно теплым, летним дождем, - в комнате звучал крепкий голос
Павла.
- Вот она! - крикнул хохол.
Мать видела, как быстро обернулся Павел, и видела, что его лицо вспыхнуло
чувством, обещавшим что-то большое для нее.
- Вот и пришел... и дома! - забормотала она, растерявшись от неожиданности,
и села.
Он наклонился к
ней бледный, в углах его глаз светло сверкали маленькие слезинки, губы
вздрагивали. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.
Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опустив голову, и вышел на
двор.
- Спасибо, мама! - глубоким, низким голосом заговорил Павел, тиская
ее руку вздрагивающими пальцами. - Спасибо, родная!
Радостно потрясенная
выражением лица и звуком голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая
биение сердца, тихонько говорила:
- Христос с тобой! За что?..
- За то, что помогаешь великому нашему делу, спасибо! - говорил он.
- Когда человек может назвать мать свою и по духу родной - это редкое
счастье!
Она молча, жадно глотая его слова открытым сердцем, любовалась сыном,
- он стоял перед нею такой светлый, близкий.
- Я, мама, видел, - многое задевало тебя за душу, трудно тебе. Думал
- никогда ты не помиришься с нами, не примешь наши мысли, как свои,
а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было!..
- Андрюша очень много дал мне понять! - вставила она.
- Он мне рассказывал про тебя! - смеясь, сказал Павел.
- Егор тоже. Мы с ним земляки. Андрюша даже грамоте хотел учить...
- А ты - сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?
- Уж он подглядел! - смущенно воскликнула она. И, обеспокоенная обилием
радости, наполнявшей ее грудь, предложила Павлу: - Позвать бы его! Нарочно
ушел, чтобы не мешать. У него - матери нет...
- Андрей!.. - крикнул
Павел, отворяя дверь в сени. - Ты где?
- Здесь. Дрова колоть хочу.
- Иди сюда!
Он пришел не сразу, а войдя в кухню, хозяйственно заговорил:
- Надо сказать Николаю, чтобы дров привез, - мало дров у нас. Видите,
ненько, какой он, Павел? Вместо того чтобы наказывать, начальство только
откармливает бунтарей...
Мать засмеялась.
У нее еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже
что-то скупое и осторожное вызывало в ней желание видеть сына спокойным,
таким, как всегда. Было слишком хорошо в душе, и она хотела, чтобы первая
- великая - радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой
живой и сильной, как пришла. И, опасаясь, как бы не убавилось счастья,
она торопилась скорее прикрыть его, точно птицелов случайно
пойманную им редкую птицу.
- Давайте обедать!
Ты, Паша, ведь не ел еще? - суетливо предложила она.
- Нет. Я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня
- не пилось, не елось...
- Первого встретил я здесь старика Сизова, - рассказывал Павел. - Увидал
он меня, перешел дорогу, здоровается. Я ему говорю: "Вы теперь
осторожнее со мной, я человек опасный, нахожусь под надзором полиции".
- "Ничего", - говорит. И знаешь, как он спросил о племяннике?
"Что, говорит, Федор хорошо себя вел?" - "Что значит
- хорошо себя вести в тюрьме?" - "Ну, говорит, лишнего чего
не болтал ли против товарищей?" И когда я сказал, что Федя - человек
честный и умница, он погладил бороду и гордо так заявил: "Мы, Сизовы,
в своей семье плохих людей не имеем!"
- Он старик с мозгом!
- сказал хохол, кивая головой. - Мы с ним часто разговариваем, - хороший
мужик. Скоро Федю выпустят?
- Всех выпустят, я думаю! У них ничего нет, кроме показаний Исая, а
он что же мог сказать?
Мать ходила взад и вперед и смотрела на сына, Андрей, слушая его рассказы,
стоял у окна, заложив руки за спину. Павел расхаживал по комнате. У
него отросла борода, мелкие кольца тонких, темных волос густо вились
на щеках, смягчая смуглый цвет лица.
- Садитесь! - предложила мать, подавая на стол горячее. За обедом Андрей
рассказал о Рыбине. И, когда он кончил, Павел с сожалением воскликнул:
- Будь я дома -
я бы не отпустил его! Что он понес с собой? Большое чувство возмущения
и путаницу в голове.
- Ну, - сказал хохол усмехаясь, - когда человеку сорок пет да он сам
долго боролся с медведями в своей душе - трудно его переделать...
Завязался один из тех споров, когда люди начинали говорить словами,
непонятными для матери. Кончили обедать, а все еще ожесточенно осыпали
друг друга трескучим градом мудреных слов. Иногда говорили просто.
- Мы должны идти нашей дорогой, ни на шаг не отступая в сторону! - твердо
заявлял Павел.
- И наткнуться в пути на несколько десятков миллионов людей, которые
встретят нас, как врагов...
Мать прислушивалась
к спору и понимала, что Павел не любит крестьян, а хохол заступается
за них, доказывая, что и мужиков добру учить надо. Она больше понимала
Андрея, и он казался ей правым, но всякий раз, когда он говорил Павлу
что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыхание, ждала ответа сына,
чтобы скорее узнать, - не обидел ли его хохол? Но они кричали друг на
друга не обижаясь.
Иногда мать спрашивала
сына:
- Так ли, Паша? Улыбаясь, он отвечал:
- Так!
- Вы, господин, - с ласковым ехидством говорил хохол, - сыто поели,
да плохо жевали, у вас в горле кусок стоит. Прополощите горлышко!
- Не дури! - посоветовал Павел.
- Да я - как на панихиде!..
Мать, тихо посмеиваясь, качала головой...