| максим горький жизнь клима самгина библиотека революционера большевизм рабочее движение |
Максим Горький Жизнь Клима Самгина (Сорок лет) Повесть
Часть первая ГЛАВА 1
|
| Иван Акимович Самгин любил оригинальное;
поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы,
стал убеждать ее: Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем: - Христофор? Кирик? Вукол? Никодим? Каждое имя он уничтожал
вычеркивающим жестом, а перебрав десятка полтора необычных имен, воскликнул
удовлетворенно: - Вы утомляете Веру пустяками, - строго заметила, пеленая
новорожденного, Мария Романовна, акушерка. Роженица выздоравливала медленно, ребенок был слаб; опасаясь,
что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила
окрестить его; окрестили, и Самгин, виновато улыбаясь, сказал: Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера
Петровна одобрила: Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни
заметно подчеркнуло его. У домашних тоже были причины - у каждого своя - относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери; отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя, бабушка, находя имя "мужицким", считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клима здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем. Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя "между молотом и наковальней", между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили "народ" и пошли воскрешать, спасать его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны. Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого
поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный
поэтом к народу: В этой борьбе пострадала и семья Самгиных: старший брат Ивана Яков, просидев почти два года в тюрьме, был сослан в Сибирь, пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан; Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета; двоюродный брат Веры Петровны и муж Марьи Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск, в ссылку. Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева, правительство
ответило на него азиатскими репрессиями. Когда герои были уничтожены, они - как это всегда бывает – оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать. Постепенно начиналась скептическая критика "значения личности в процессе творчества истории", - критика, которая через десятки лет уступила место неумеренному восторгу пред новым героем, "белокурой бестией" Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь с Спенсером, что "из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения", сосредоточивали силы и таланты свои на "самопознании", на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга "наше время - не время широких задач". Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал
силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя,
- художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами,
как их слуги, истерически кричал: Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые, неуживчивые люди; они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были "нездешние", куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их, маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал: - У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте: всё в десять раз больше. Мне на ночь зачем-то дали две подушки и две свечи. Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но
все-таки вечерами у него, по привычке, собирались люди, еще не изжившие
настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно
являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным
лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под
шапочки строго торчали большие, серые уши. Со второго этажа спускался
квартирант Варавка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового
извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно
натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно
шаркал подошвами; ступни у него были овальные, как блюда для рыбы. Садясь
к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок?
На нем и вокруг него все потрескивало. скрипело, тряслось, мебель и посуда
боялись его, а когда он проходил мимо рояля - гудели струны. Являлся доктор
Сомов, чернобородый, мрачный; остановясь в двери, на пороге, он осматривал
всех выпуклыми, каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал
хрипло: Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиной
всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами.
Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно
иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста,
прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто
ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее: Клим знал, что она ждет смерть, доктор Сомов при нем и
при ней сказал: - Никогда не встречал человека, который так глупо боится
смерти, как моя супруга. - Ну, давайте читать, читать! Вера Петровна успокаивала
ее: Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому
столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок, "под мужика",
усаживался лицом к взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда
отец начнет показывать его. Из рассказов отца, матери, бабушки гостям Клим узнал о
себе немало удивительного и важного: оказалось, что он, будучи еще совсем
маленьким, заметно отличался от своих сверстников. Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова: Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся: как он забыл о том,
что помнит отец? Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в
нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось. Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая:
так ли это? Гости соглашались с нею: Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима
осталось только одно: есть желтые цветы и есть красные, он, Клим, красный
цветок; желтые цветы - скучные. Со всем этим никогда не соглашался Настоящий Старик - дедушка
Аким, враг своего внука и всех людей, высокий, сутулый и скучный, как
засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч,
а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый,
глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются, длинные
руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно, он одет всегда в
длинный, коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких
подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож, на конце палки кожаный
мяч, чтоб она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его
сапог. Он именно "настоящий старик" и даже сидит опираясь обеими
руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада. Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал,
что все хорошее на земле - выдумано, что выдумывать начали еще обезьяны,
от которых родился человек, - дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на
полу нули, и кричал скрипучим голосом: Но никто не мог переспорить отца, из его вкусных губ слова
сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал: сейчас дед отмахнется
палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги,
и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему: Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унизить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий Старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие дети, он дружился с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей Варавки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана. Это было очень обидно слышать, возбуждало неприязнь к дедушке
и робость пред ним. Клим верил отцу: все хорошее выдумано - игрушки, конфеты,
книги с картинками, стихи - все. Заказывая обед, бабушка часто говорит
кухарке: Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают,
сам начал выдумывать себя, но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки.
Когда-то давно он спросил Варавку: Варавка схватил его и стал подкидывать к потолку, легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы; пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но, когда он сказал, что люди сердятся по-летнему и по-зимнему, бойкая дочь Варавки, Лида, сердито крикнула: - Это я сказала, я первая, а не он! Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего
нет у других детей, Клим старался, после вечернего чая, возможно больше
посидеть со взрослыми у потока слов, из которого он черпал мудрость. Внимательно
слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые
особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов.
Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист,
культуртрегер, а объяснив и лаская сына, хвалил его: Отец был очень приятный, но менее интересный, чем Варавка. Трудно было понять, что говорит отец, он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие, зеленоватые глазки, его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, в бороде шевелилась большая, красная улыбка; улыбнувшись, Варавка вкусно облизывал губы свои длинным, масляно блестевшим языком. Несомненно, это был самый умный человек, он никогда ни
с кем не соглашался и всех учил, даже Настоящего Старика, который жил
тоже несогласно со всеми, требуя, чтоб все шли одним путем. Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что
есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз, - интеллигенция. Клим
знал, что интеллигенция - это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно,
сам Варавка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было
странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с Варавкой;
сердито выкатывая черные глаза, он кричал: Варавка, сидя на самом крепком стуле, хохотал, стул под
ним скрипел. Потирая пухлые, теплые ладони, начинал говорить отец: Она говорила не много, спокойно и без необыкновенных слов,
и очень редко сердилась, но всегда не "по-летнему", шумно и
грозно, как мать Лидии, а "по-зимнему". Красивое лицо ее бледнело,
брови опускались; вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно
смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое,
простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние
между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с мест. Однажды
она очень "по-зимнему" рассердилась на учителя Томилина, который
долго и скучно говорил о двух правдах: правде-истине и правде-справедливости. Когда говорили интересное и понятное, Климу было выгодно,
что взрослые забывали о нем, но, если споры утомляли его, он тотчас напоминал
о себе, и мать или отец изумлялись: Учитель молча, осторожно отодвинулся от нее, а у Тани порозовели
уши, и, наклонив голову, она долго, неподвижно смотрела в пол, под ноги
себе. Она сказала это так сильно встряхнув головой, что очки
ее подскочили выше бровей. Вскоре Клим узнал и незаметно для себя привык
думать, что царь - это военный человек, очень злой и хитрый, недавно он
"обманул весь народ". Настоящий народ Клим воображал неисчислимой толпой людей огромного роста, несчастных и страшных, как чудовищный нищий Вавилов. Это был высокий старик в шапке волос, курчавых, точно овчина, грязносерая борода обросла его лицо от глаз до шеи, сизая шишка носа едва заметна на лице, рта совсем не видно, а на месте глаз тускло светятся осколки мутных стекол. Но когда Вавилов рычал под окном: "Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!" - в дремучей бороде его разверзалась темная яма, в ней грозно торчали три черных зуба и тяжко шевелился язык, толстый и круглый, как пест. Взрослые говорили о нем. с сожалением, милостыню давали
ему почтительно, Климу казалось, что они в чем-то виноваты пред этим нищим
и, пожалуй, даже немножко боятся его, так же, как боялся Клим. Отец восхищался: По ее рассказам, нищий этот был великий грешник и злодей,
в голодный год он продавал людям муку с песком, с известкой, судился за
это, истратил все деньги свои на подкупы судей и хотя мог бы жить в скромной
бедности, но вот нищенствует. Было очень трудно понять, что такое народ. Однажды летом
Клим, Дмитрий и дед ездили в село на ярмарку. Клима очень удивила огромная
толпа празднично одетых баб и мужиков, удивило обилие полупьяных, очень
веселых и добродушных людей. Стихами, которые отец заставил его выучить
и заставлял читать при гостях, Клим спросил дедушку: Клим не поверил. Но когда горели дома на окраине города
и Томилин привел Клима смотреть на пожар, мальчик повторил свой вопрос.
В густой толпе зрителей никто не хотел качать воду, полицейские выхватывали
из толпы за шиворот людей, бедно одетых, и кулаками гнали их к машинам. Томилин долго и скучно говорил о зрителях и деятелях, но
Клим, ничего не поняв, спросил: Клим рассказал, что бог велел Аврааму зарезать Исаака,
а когда Авраам хотел резать, бог сказал: не надо, лучше зарежь барана.
Отец немного посмеялся, а потом, обняв сына, разъяснил, что эту историю
надобно понимать: Клим снова задумался, а потом осторожно спросил: И вообще, чем дальше, тем все труднее становилось понимать
взрослых, - труднее верить им. Настоящий Cтарик очень гордился своим училищем
для сирот, интересно рассказывал о нем. Но вот он привез внуков на рождественскую
елку в это хваленое училище, и Клим увидал несколько десятков худеньких
мальчиков, одетых в полосатое, синее с белым, как одевают женщин-арестанток.
Все мальчики были бритоголовые, у многих на лицах золотушные язвы, и все
они были похожи на оживших солдатиков из олова. Стоя около некрасивой
елки в три ряда, в форме буквы "п", они смотрели на нее жадно,
испуганно и скучно. Явился толстенький человечек с голым черепом, с желтым
лицом без усов и бровей, тоже как будто уродливо распухший мальчик; он
взмахнул руками, и все полосатые отчаянно запели: Неловко было подумать, что дед - хвастун, но Клим подумал
это. Бабушку никто не любил. Клим, видя это, догадался, что
он неплохо сделает, показывая, что только он любит одинокую старуху. Он
охотно слушал ее рассказы о таинственном доме. Но в день своего рождения
бабушка повела Клима гулять и в одной из улиц города, в глубине большого
двора, указала ему неуклюжее, серое, ветхое здание в пять окон, разделенных
тремя колоннами, с развалившимся крыльцом, с мезонином в два окна. Окна были забиты досками, двор завален множеством полуразбитых бочек и корзин для пустых бутылок, засыпан осколками бутылочного стекла. Среди двора сидела собака, выкусывая из хвоста репейник. И старичок с рисунка из надоевшей Климу "Сказки о рыбаке и рыбке" - такой же лохматый старичок, как собака, - сидя на ступенях крыльца, жевал хлеб с зеленым луком. Клим хотел напомнить бабушке, что она рассказывала ему
не о таком доме, но, взглянув на нее, спросил: В учителе Клим видел нечто таинственное. Небольшого роста, угловатый, с рыжей, расколотой надвое бородкой и медного цвета волосами до плеч, учитель смотрел на все очень пристально и как бы издалека. Глаза у него были необыкновенны: на белках мутномолочного цвета выпуклые, золотистые зрачки казались наклеенными. Ходил Томилин в синем пузыре рубахи из какой-то очень жесткой материи, в тяжелых, мужицких сапогах, в черных брюках. Лицо его напоминало икону святого. Всего любопытнее были неприятно красные, боязливые руки учителя. Первые дни знакомства Клим думал, что Томилин полуслеп, он видит все вещи не такими, каковы они есть, а крупнее или меньше, оттого он и прикасается к ним так осторожно, что было даже смешно видеть это. Но учитель не носил очков, и всегда именно он читал вслух лиловые тетрадки, перелистывая нерешительно, как будто ожидая, что бумага вспыхнет под его раскаленными пальцами. Он жил в мезонине Самгина уже второй год, ни в чем не изменяясь, так же, как не изменился за это время самовар. После чая, когда горничная Малаша убирала посуду, отец
ставил пред Томилиным две стеариновые свечи, все усаживались вокруг стола,
Варавка морщился, точно ему надо было принять рыбий жир, - морщился и
ворчливо спрашивал: Доктор неприятен, он как будто долго лежал в погребе, отсырел там, оброс черной плесенью и разозлился на всех людей. Он, должно быть, неумный, даже хорошую жену не мог выбрать, жена у него маленькая, некрасивая и злая. Говорила она редко, скупо; скажет два-три слова и надолго замолчит, глядя в угол. С нею не спорили и вообще о ней забывали, как будто ее и не было; иногда Климу казалось: забывают о ней нарочно, потому что боятся ее. Но ее надорванный голос всегда тревожил Клима, заставляя ждать, что эта остроносая женщина скажет какие-то необыкновенные слова, как она это уже делала. Однажды Варавка вдруг рассердился, хлопнул тяжелой ладонью
по крышке рояля и проговорил, точно дьякон: На Варавку кричала Мария Романовна, но сквозь ее сердитый
крик Клим слышал упрямый голос докторши: Варавка был самый интересный и понятный для Клима. Он не
скрывал, что ему гораздо больше нравится играть в преферанс, чем слушать
чтение. Клим чувствовал, что и отец играет в карты охотнее, чем слушает
чтение, но отец никогда не сознавался в этом. Варавка умел говорить так
хорошо, что слова его ложились в память, как серебряные пятачки в копилку.
Когда Клим спросил его: что такое гипотеза? - он тотчас ответил: Клима посылали спать раньше, чем начиналось чтение или
преферанс, но мальчик всегда упрямился, просил: Варавка хохотал до слез, мать неохотно улыбалась, а Мария
Романовна пророчески, вполголоса говорила ей: Вместе с тем он замечал, что дети всё откровеннее не любят
его. Они смотрели на него с любопытством, как на чужого, и тоже, как взрослые,
ожидали от него каких-то фокусов. Но его мудреные словечки и фразы возбуждали
у них насмешливый холодок, недоверие к нему, а порой и враждебность. Клим
догадывался, что они завидуют его славе, - славе мальчика исключительных
способностей, но все-таки это обижало его, вызывая в нем то грусть, то
раздражение. Ему хотелось преодолеть недружелюбие товарищей, но он пытался
делать это лишь продолжая более усердно играть роль, навязанную взрослыми.
Он пробовал командовать, учить, и - вызывал сердитый отпор Бориса Варавки.
Этот ловкий, азартный мальчик пугал и даже отталкивал Клима своим властным
характером. В его затеях было всегда что-то опасное, трудное, но он заставлял
подчиняться ему и во всех играх сам назначал себе первые роли. Прятался
в недоступных местах, кошкой лазил по крышам, по деревьям; увертливый,
он никогда не давал поймать себя и, доведя противную партию игроков до
изнеможения, до отказа от игры, издевался над побежденными: Климу казалось, что Борис никогда ни о чем не думает, заранее
зная, как и что надобно делать. Только однажды, раздосадованный вялостью
товарищей, он возмечтал: Клим чувствовал, что маленький Варавка не любит его настойчивее и более открыто, чем другие дети. Ему очень нравилась Лида Варавка, тоненькая девочка, смуглая, большеглазая, в растрепанной шапке черных, курчавых волос. Она изумительно бегала, легко отскакивая от земли, точно и не касаясь ее; кроме брата, никто не мог ни поймать, ни перегнать ее. И так же, как брат, она всегда выбирала себе первые роли. Ударившись обо что-нибудь, расцарапав себе ногу, руку, разбив себе нос, она никогда не плакала, не ныла, как это делали девочки Сомовы. Но она была почти болезненно чутка к холоду, не любила тени, темноты и в дурную погоду нестерпимо капризничала. Зимою она засыпала, как муха, сидела в комнатах, почти не выходя гулять, и сердито жаловалась на бога, который совершенно напрасно огорчает ее, посылая на землю дождь, ветер, снег. О боге она говорила, точно о добром и хорошо знакомом ей
старике, который живет где-то близко и может делать все, что хочет, но
часто делает не так, как надо. Мать свою Лида изображала мученицей, ей жгут спину раскаленным
железом, вспрыскивают под кожу лекарства и всячески терзают ее. С этой девочкой Климу было легко и приятно, так же приятно, как слушать сказки няньки Евгении. Клим понимал, что Лидия не видит в нем замечательного мальчика, в ее глазах он не растет, а остается все таким же, каким был два года тому назад, когда Варавки сняли квартиру. Он смущался и досадовал, видя, что девочка возвращает его к детскому, глупенькому, но он не мог, не умел убедить ее в своей значительности; это было уже потому трудно, что Лида могла говорить непрерывно целый час, но не слушала его и не отвечала на вопросы. Нередко вечерами, устав от игры, она становилась тихонькой
и, широко раскрыв ласковые глаза, ходила по двору, по саду, осторожно
щупая землю пружинными ногами и как бы ища нечто потерянное. Голос у нее бедный, двухтоновой, Климу казалось, что он
качается только между нот фа и соль. И вместе с матерью своей Клим находил,
что девочка знает много лишнего для своих лет. Особенно часто, много и всегда что-то новое Лидия рассказывала
о матери и о горничной Павле, румяной, веселой толстухе. Рассказывая, она крепко сжимала пальцы рук в кулачок и,
покачиваясь, размеренно пристукивала кулачком по коленям своим. Голос
ее звучал все тише, все менее оживленно, наконец она говорила как бы сквозь
дрему и вызывала этим у Клима грустное чувство. Иногда Клим испытывал желание возразить девочке, поспорить с нею, но не решался на это, боясь, что Лида рассердится. Находя ее самой интересной из всех знакомых девочек, он гордился тем, что Лидия относится к нему лучше, чем другие дети. И когда Лида вдруг капризно изменяла ему, приглашая в тарантас Любовь Сомову, Клим чувствовал себя обиженным, покинутым и ревновал до злых слез. Девочки Сомовы казались ему такими же неприятными и глупыми,
как их отец. Погодки, они обе коротенькие, толстые, с лицами круглыми,
точно блюдечки чайных чашек. Старшая, Варя, отличалась от сестры своей
только тем, что хворала постоянно и не так часто, как Любовь, вертелась
на глазах Клима. Младшую Варавка прозвал Белой Мышью, а дети называли
ее Люба Клоун. Белое лицо ее казалось осыпанным мукой, голубоватосерые,
жидкие глаза прятались в розовых подушечках опухших век, бесцветные брови
почти невидимы на коже очень выпуклого лба, льняные волосы лежали на черепе,
как приклеенные, она заплетала их в смешную косичку, с желтой лентой в
конце. Она была веселая, Клим подозревал, что веселость эта придумана
некрасивой и неумной девочкой. Выдумывала она очень много и всегда неудачно.
Придумала скучную игру "Что с кем будет?": нарезав бумагу маленькими
квадратиками, она писала на них разные слова, свертывала квадратики в
тугие трубки и заставляла детей вынимать из подола ее по три трубки. Клим, видя, что все недовольны, еще более не взлюбил Сомову
и еще раз почувствовал, что с детьми ему труднее, чем со взрослыми. Чаще всего дети играли в цирк; ареной цирка служил стол, а конюшни помещались под столом. Цирк - любимая игра Бориса, он был директором и дрессировщиком лошадей, новый товарищ Игорь Туробоев изображал акробата и льва, Дмитрий Самгин - клоуна, сестры Сомовы и Алина - пантера, гиена и львица, а Лидия Варавка играла роль укротительницы зверей. Звери исполняли свои обязанности честно и серьезно, хватали Лидию за юбку, за ноги, пытались повалить ее и загрызть; Борис отчаянно кричал: - Не визжать поросятами! Лидка, бей их больнее! Климу чаще
всего навязывали унизительные обязанности конюха, он вытаскивал из-под
стола лошадей, зверей и подозревал, что эту службу возлагают на него нарочно,
чтоб унизить. И вообще игра в цирк не нравилась ему, как и другие игры,
крикливые, быстро надоедавшие. Отказываясь от участия в игре, он уходил
в "публику", на диван, где сидели Павла и сестра милосердия,
а Борис ворчал: - Клим! - звала она голосом мужчины. Клим боялся
ее; он подходил осторожно и, шаркнув ногой, склонив голову, останавливался
в двух шагах от кровати, чтоб темная рука женщины не достала его. Глафира Исаевна брала гитару или другой инструмент,
похожий на утку с длинной, уродливо прямо вытянутой шеей; отчаянно звенели
струны, Клим находил эту музыку злой, как все, что делала Глафира Варавка. - Она может лучше, но сегодня не в голосе. И спрашивала,
очень ласково: Если дети слишком шумели и топали, снизу, от Самгиных,
поднимался Варавка-отец и кричал, стоя в двери: Варавка требовал с детей честное слово, что они не станут
щекотать его, и затем начинал бегать рысью вокруг стола, топая так, что
звенела посуда в буфете и жалобно звякали хрустальные подвески лампы. Затем он шел в комнату жены. Она, искривив губы, шипела
встречу ему, ее черные глаза, сердито расширяясь, становились глубже,
страшней; Варавка говорил нехотя и негромко: Борис бегал в рваных рубашках, всклоченный, неумытый. Лида
одевалась хуже Сомовых, хотя отец ее был богаче доктора. Клим все более
ценил дружбу девочки, - ему нравилось молчать, слушая ее милую болтовню,
- молчать, забывая о своей обязанности говорить умное, не детское. Когда явился Туробоев, Клим почувствовал себя отодвинутым
еще дальше, его поставили рядом с братом, Дмитрием. Но добродушного, неуклюжего
Дмитрия любили за то, что он позволял командовать собой, никогда не спорил,
не обижался, терпеливо и неумело играл самые незаметные, невыгодные роли.
Любили и за то, что Дмитрий умел, как-то неожиданно и на зависть Клима,
овладевать вниманием детей, рассказывая им о гнездах птиц, о норах, о
логовищах зверей, о жизни пчел и ос. Рассказывал он вполголоса, таинственно,
и на широком лице его, в добрых серых глазах, таилась радостная улыбка. Туробоев и Борис требовали, чтоб Клим подчинялся их воле
так же покорно, как его брат; Клим уступал им, но в середине игры заявлял: Лидия смотрела на него искоса и хмурилась, Сомовы и Алина,
видя измену Лидии, перемигивались, перешептывались, и все это наполняло
душу Клима едкой грустью. Но мальчик утешал себя догадкой: его не любят,
потому что он умнее всех, а за этим утешением, как тень его, возникала
гордость, являлось желание поучать, критиковать; он находил игры скучными
и спрашивал: Туробоев, холодненький, чистенький и вежливый, тоже смотрел
на Клима, прищуривая темные, неласковые глаза, - смотрел вызывающе. Его
слишком красивое лицо особенно сердито морщилось, когда Клим подходил
к Лидии, но девочка разговаривала с Климом небрежно; торопливо, притопывая
ногами и глядя в ту сторону, где Игорь. Она все более плотно срасталась
с Туробоевым, ходили они взявшись за руки; Климу казалось, что, даже увлекаясь
игрою, они играют друг для друга, не видя, не чувствуя никого больше. Случилось, что Дмитрий Самгин, спасаясь от рук Лиды, опрокинул
стул под ноги ей, девочка ударилась коленом о ножку стула, охнула, - Игорь,
побледнев, схватил Дмитрия за горло: Иван Дронов не только сам назывался по фамилии, но и бабушку
свою заставил звать себя - Дронов. Кривоногий, с выпученным животом, с
приплюснутым, плоским черепом, широким лбом и большими ушами, он был как-то
подчеркнуто, но притягательно некрасив. На его широком лице, среди которого
красненькая шишечка носа была чуть заметна, блестели узенькие глазки,
мутноголубые, очень быстрые и жадные. Жадность была самым заметным свойством
Дронова; с необыкновенной жадностью он втягивал мокреньким носом воздух,
точно задыхаясь от недостатка его. Жадно и с поразительной быстротой ел,
громко чавкая, пришлепывая толстыми, яркими губами. Он говорил Климу: Но в добрую минуту, таинственно понизив высокий, резкий
голос свой, он сказал: Заметив, что Дронов называет голодного червя - чевряком,
чреваком, чревоедом, Клим не поверил ему. Но, слушая таинственный шопот,
он с удивлением видел пред собою другого мальчика, плоское лицо нянькина
внука становилось красивее, глаза его не бегали, в зрачках разгорался
голубоватый огонек радости, непонятной Климу. За ужином Клим передал рассказ
Дронова отцу, - отец тоже непонятно обрадовался. Но мать, не слушая отца, - как она часто делала, - кратко
и сухо сказала Климу, что Дронов все это выдумал: тетки-ведьмы не было
у него; отец помер, его засыпало землей, когда он рыл колодезь, мать работала
на фабрике спичек и умерла, когда Дронову было четыре года, после ее смерти
бабушка нанялась нянькой к брату Мите; вот и все. Тут пришел Варавка, за ним явился Настоящий Старик, начали
спорить, и Клим еще раз услышал не мало такого, что укрепило его в праве
и необходимости выдумывать себя, а вместе с этим вызвало в нем интерес
к Дронову, - интерес, похожий на ревность. На другой же день он спросил
Ивана: Каждое утро, в девять часов, Клим и Дронов поднимались в мезонин к Томилину и до полудня сидели в маленькой комнате, похожей на чулан, куда в беспорядке брошены три стула, стол, железный умывальник, скрипучая деревянная койка и множество книг. В комнате этой всегда было жарко, стоял душный запах кошек и голубиного помета. Из полукруглого окна были видны вершины деревьев сада, украшенные инеем или снегом, похожим на куски ваты; за деревьями возвышалась серая пожарная каланча, на ней медленно и скучно кружился человек в сером тулупе, за каланчою - пустота небес. Учитель встречал детей молчаливой, неясной улыбкой; во всякое время дня он казался человеком только что проснувшимся. Он тотчас ложился вверх лицом на койку, койка уныло скрипела. Запустив пальцы рук в рыжие, нечесанные космы жестких и прямых волос, подняв к потолку расколотую, медную бородку, не глядя на учеников, он спрашивал и рассказывал тихим голосом, внятными словами, но Дронов находил, что учитель говорит "из-под печки". Иногда, чаще всего в час урока истории, Томилин вставал
и ходил по комнате, семь шагов от стола к двери и обратно, - ходил наклоня
голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной,
сжав пальцы так крепко, что они багровели. У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко,
рассказывая историю, он задумывался на минуту, на две, а помолчав, начинал
говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою
и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый,
усмехался кривенькой усмешкой; губы Дронова были рыбьи, тупые, жесткие,
как хрящи. После урока Клим спрашивал: Говоря о Томилине, Иван Дронов всегда понижал голос, осторожно
оглядывался и хихикал, а Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит
учителя с радостью и что ему нравится не любить. Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится
обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик
не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как
не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая как-то даже
яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу
или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок
шерсти котятам или смазывал шерсть маслом, клеем. Старуха била его, а
побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами: Потом, сунув внуку кусок пирога или конфекту, говорила,
вздыхая: Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дронова, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтоб издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был труслив и груб с девочками, с Лидией - больше других. Презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтоб ей было стыдно. Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел
на ступенях крыльца кухни, упираясь локтями в колена, а скулами о ладони,
и затуманенными глазами наблюдал игры барчат. Он радостно взвизгивал,
когда кто-нибудь падал или, ударившись, морщился от боли. Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно
ходил по двору, глядя в землю. Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик, но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника, ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему. Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился
непохож сам на себя. Им овладевала задумчивость, он весь вытягивался,
выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны,
полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но
легкий и прозрачный, как тень, человек, перешагнул через ворота, пошел
по улице, и, когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась
вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра. Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще,
Клим - не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой,
он ткнулся головой в колена матери и зарыдал. Мать ласково успокаивала
его, сказала много милых слов и даже похвалила: Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная, о ней почти нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже Настоящий Старик и упрямая Мария Романовна - Тираномашка, как за глаза называет ее Варавка. Мать редко смеется и мало говорит, у нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный, острый нос и маленькие, розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в три круга, это делает ее очень высокой, гораздо выше отца. Руки у нее всегда горячие. Совершенно ясно, что больше всех мужчин ей нравится Варавка, она охотнее говорит с ним и улыбается ему гораздо чаще, чем другим. Все знакомые говорят, что она удивительно хорошеет. Отец тоже незаметно, но значительно изменился, стал еще
более суетлив, щиплет темненькие усы свои, чего раньше не делал; голубиные
глаза его ослепленно мигают и смотрят так задумчиво, как будто отец забыл
что-то и не может вспомнить. Говорить он стал еще больше и крикливее,
оглушительней. Он говорит о книгах, пароходах, лесах и пожарах, о глупом
губернаторе и душе народа, о революционерах, которые горько ошиблись,
об удивительном человеке Глебе Успенском, который "все видит насквозь".
Он всегда говорит о чем-нибудь новом и так, как будто боится, что завтра
кто-то запретит ему говорить. - конечно, я был в то время идиотом... Почти каждый вечер он ссорился с Марией Романовной, затем
с нею начала спорить и Вера Петровна; акушерка, встав на ноги, выпрямлялась,
вытягивалась и, сурово хмурясь, говорила ей: Мария Романовна тоже как-то вдруг поседела, отощала и согнулась; голос у нее осел, звучал глухо, разбито и уже не так властно, как раньше. Всегда одетая в черное, ее фигура вызывала уныние; в солнечные дни, когда она шла по двору или гуляла в саду с книгой в руках, тень ее казалась тяжелей и гуще, чем тени всех других людей, тень влеклась за нею, как продолжение ее юбки, и обесцвечивала цветы, травы. Споры с Марьей Романовной кончились тем, что однажды утром она ушла со двора вслед за возом своих вещей, ушла, не простясь ни с кем, шагая величественно, как всегда, держа в одной руке саквояж с инструментами, а другой прижимая к плоской груди черного, зеленоглазого кота. Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим видел, что среди
них началось что-то непонятное, тревожное, как будто все они садятся не
на те стулья, на которых привыкли сидеть. Учитель тоже стал непохож на
себя. Как раньше, он смотрел на всех теми же смешными глазами человека,
которого только что разбудили, но теперь он смотрел обиженно, угрюмо и
так шевелил губами, точно хотел закричать, но не решался. А на мать Клима
он смотрел совершенно так же, как дедушка Аким на фальшивый билет в десять
рублей, который кто-то подсунул ему. И говорить с нею он стал непочтительно.
Вечером, войдя в гостиную, когда мама собиралась играть на рояле, Клим
услыхал грубые слова Томилина: А через несколько дней, ночью, встав с постели, чтоб закрыть
окно, Клим увидал, что учитель и мать идут по дорожке сада; мама отмахивается
от комаров концом голубого шарфа, учитель, встряхивая медными волосами,
курит. Свет луны был так маслянисто густ, что даже дым папиросы окрашивался
в золотистый тон. Клим хотел крикнуть: "Мама, а я еще не сплю",
- но вдруг Томилин, запнувшись за что-то, упал на колени, поднял руки,
потряс ими, как бы угрожая, зарычал и охватил ноги матери. Она покачнулась,
оттолкнула мохнатую голову и быстро пошла прочь, разрывая шарф. Учитель,
тяжело перевалясь с колен на корточки, встал, вцепился в свои жесткие
волосы, приглаживая их, и шагнул вслед за мамой, размахивая рукою. Тут
Клим испуганно позвал: Остановясь, она подняла голову и пошла к дому, обойдя учителя,
как столб фонаря. У постели Клима она встала с лицом необычно строгим,
почти незнакомым, и сердито начала упрекать: Не желая, чтоб она увидала по глазам его, что он ей не верит, Клим закрыл глаза. Из книг, из разговоров взрослых он уже знал, что мужчина становится на колени перед женщиной только тогда, когда влюблен в нее. Вовсе не нужно вставать на колени для того, чтоб снять с юбки гусеницу. Мать нежно гладила горячей рукой его лицо. Он не стал больше говорить об учителе, он только заметил: Варавка тоже не любит учителя. И почувствовал, что рука матери вздрогнула, тяжело втиснув голову его в подушку. А когда она ушла, он, засыпая, подумал: как это странно! Взрослые находят, что он выдумывает именно тогда, когда он говорит правду. Томилин перебрался жить в тупик, в маленький, узкий переулок,
заткнутый синим домиком; над крыльцом дома была вывеска: Клим думал, но не о том, что такое деепричастие и куда
течет река Аму-Дарья, а о том, почему, за что не любят этого человека.
Почему умный Варавка говорит о нем всегда насмешливо и обидно? Отец, дедушка
Аким, все знакомые, кроме Тани, обходили Томилина, как трубочиста. Только
одна Таня изредка спрашивала: Учитель возразил читающим голосом: О многом нужно было думать Климу, и эта обязанность становилась
все более трудной. Все вокруг расширялось, разрасталось, теснилось в его
душу так же упрямо и грубо, как богомольны в церковь Успения, где была
чудотворная икона божией матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли
на своих местах, не возбуждая интереса к ним, но теперь они чем-то притягивали
к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свое обаяние. Даже
дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему,
но вдруг являлось что-то новое, не замеченное раньше. В полутемном коридоре,
над шкафом для платья, с картины, которая раньше была просто темным квадратом,
стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытой во тьму. На чердаке,
в старинном окованном железом сундуке, он открыл множество интересных,
хотя и поломанных вещей: рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту,
огромную книгу на французском языке с картинами, изображающими китайцев,
толстый альбом с портретами смешно и плохо причесанных людей, лицо одного
из них было сплошь зачерчено синим карандашом. Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг, толпою вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром; в ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей. В конце августа, рано утром, явилась неумытая, непричесанная
Люба Клоун; топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала: Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемый
Любой. В полутемной спальне, - окна ее были закрыты ставнями, - на растрепанной,
развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна, ноги и руки
ее были связаны полотенцами, она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая
колени, била головой о подушку и рычала: Ее судороги становились сильнее, голос звучал злей и резче, доктор стоял в изголовье кровати, прислонясь к стене, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан, брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх, брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали, точно у пьяного, а мутные глаза так мигали, что казалось - веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой. Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у стола, щурясь
на огонь свечи, и осторожно писал что-то. Вера Петровна размешивала в
стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком
в руке. Жена, подпрыгнув, ударила его головою в скулу, он соскочил
с постели, а она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои,
всхрапывая: Она приказала им сбегать за Таней Куликовой, - все знакомые
этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах. Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув,
сказала: Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать
ее, а она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой
березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки,
сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась
и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму, Клим последовал
за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица,
Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой
воде, ударила еще и отвернулась. Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла, а Клим
еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой,
еще не испытанной им, ничего не желая, но догадываясь, сквозь скуку, что
нехорошо быть похожим на людей, которых он знал. Мать сказала, что Сомовы поссорились, что у жены доктора
сильный нервный припадок и ее пришлось отправить в больницу. Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав: через
двенадцать дней жена доктора умерла, а Дронов по секрету сказал ему, что
она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон, утром, приехал отец,
он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме
Варавки, он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими. Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный
и мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными
слезами: Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень странно, но не страшно видеть ее большое, широкобедрое тело, поклонившееся земле, голову, свернутую набок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый, серьезный глаз и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной улыбкой на толстом, важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая. Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного
платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал: Нянька была единственным человеком, который пролил тихие
слезы над гробом усопшей. После похорон, за обедом, Иван Акимович Самгин
сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая
ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес: Туго застегнутый в длинненький, ниже колен, мундирчик,
Дронов похудел, подобрал живот и, гладко остриженный, стал похож на карлика-солдата.
Разговаривая с Климом, он распахивал полы мундира, совал руки в карманы,
широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал: Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе
учителей, и в память Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии
с фабрикой спичек. Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей, она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли, очевидно, неизбежной для него так же, как неизбежны утренние обтирания тела холодной водой, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь. Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения.
Он вспомнил, как Варавка внушал отцу: Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалостей и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно: в середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей. Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной
ему: мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли
ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным.
Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка
с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию, мальчики прозвали
его Недоделанный, потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя
настолько незаметно, что, даже когда Климу указали на это, он не сразу
убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал,
что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый
раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои
так, точно хотел свистнуть, несколько секунд разглядывал Клима через очки
и наконец ласково спрашивал: Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных, стриженых
голов с оскаленными зубами, разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть
это было обидно до слез. И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая
вопросами по закону божьему, самому скучному предмету для Клима. Томилин
выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно, а когда Дронов уходил,
он, помолчав минуту, две, спрашивал Клима словами Глафиры Варавки: Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем
сама наука, и лучше запоминались им, а Томилин был весьма щедр на добавления.
Говорил он, как бы читая написанное на потолке, оклеенном глянцевитой,
белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин. Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами.
Клим видел сбоку фарфоровый, блестящий белок, это напомнило ему мертвый
глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует
сам с собой, забыв о нем, ученике. И нередко Клим ждал, что вот сейчас
учитель скажет что-то о матери, о том, как он в саду обнимал ноги ее.
Но учитель говорил: Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить
их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю: человек, ни
на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним, как со взрослым и
равным себе. Это было очень полезно: запоминая не совсем обычные фразы
учителя, Клим пускал их в оборот, как свои, и этим укреплял за собой репутацию
умника. Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую
руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое,
- так повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь. Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом, отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницей на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни, приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который не торопясь переходил с угла на угол. Теперь, когда Клим большую часть дня проводил вне дома,
многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать, но все же он видел,
что в доме становится все беспокойнее, все люди стали иначе ходить и даже
двери хлопают сильнее. Отец все чаще уезжает в лес, на завод или в Москву, он
стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел, у
него прибавилось лба, лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми и
скучно выцвели, погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно подскакивая,
держа руки в карманах и насвистывая вальсы. Мать все чаще смотрела на
него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора
уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничней, еще более гордо выпрямилась,
окрепла, пополнела, она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и
скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив,
что отец отскочил от него в сторону Дмитрия и что у него с Дмитрием есть
какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду,
в беседке; отец, посмеиваясь необычным, икающим смехом, сидел рядом с
Дмитрием, крепко прижав его к себе; лицо Дмитрия было заплакано; он тотчас
вскочил и ушел, а отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал
Климу: Неохотно и немного поговорив о декабристах, отец вскочил
и ушел, насвистывая и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова.
Клим тотчас вошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике. Дмитрий сильно вырос, похудел, на круглом, толстом лице его обнаружились угловатые скулы, задумываясь, он неприятно, как дед Аким, двигал челюстью. Задумывался он часто, на взрослых смотрел недоверчиво, исподлобья. Оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал ловчее, легче, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам, а когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клима он перестал замечать, так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказанный ею без вины. Сестры Сомовы жили у Варавки, под надзором Тани Куликовой:
сам Варавка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен
был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим подымался
наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть,
девочки усаживались на диван и требовали, чтоб Дмитрий рассказал им что-нибудь. Была у Дмитрия толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке,
он записывал в нее или наклеивал вырезанные из газет забавные ненужности,
остроты, коротенькие стишки и читал девочкам, тоже как-то недоверчиво,
нерешительно: Однажды Клим пришел домой с урока у Томилина, когда уже
кончили пить вечерний чай, в столовой было темно и во всем доме так необычно
тихо, что мальчик, раздевшись, остановился в прихожей, скудно освещенной
маленькой стенной лампой, и стал пугливо прислушиваться к этой подозрительной
тишине. - Боже, какой ты ненасытный... нетерпеливый... Клим заглянул
в дверь: пред квадратной пастью печки, полной алых углей, в низеньком,
любимом кресле матери, развалился Варавка, обняв мать за талию, а она
сидела на коленях у него, покачиваясь взад и вперед, точно маленькая.
В бородатом лице Варавки, освещенном отблеском углей, было что-то страшное,
маленькие глазки его тоже сверкали, точно угли, а с головы матери на спину
ее красиво стекали золотыми ручьями лунные волосы. В этих позах было что-то смутившее Клима, он отшатнулся,
наступил на свою галошу, галоша подпрыгнула и шлепнулась. Да, наверху тяжело топали. Мать села к столу пред самоваром,
пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы
свои, продолжала: "Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно",
- догадался он, глядя, как на красных углях вспыхивают и гаснут голубые,
прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно
часто, Варавка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко
и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все
уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность
утешить себя, он повторил: События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки,
не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил
себе достойного места. Он различал в классе три группы: десяток мальчиков,
которые и учились и вели себя образцово; затем злых и неугомонных шалунов,
среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично; третья группа слагалась
из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных и робких, из неудачников,
осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу: Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно, шалости он считал ниже своего достоинства, да и не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой группе забракованных. Но среди них он себя чувствовал еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе, он уже прочитал не мало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия, он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал: почему это интересная книга, прочитанная им, теряет в его передаче все, что ему понравилось? Однажды незаконнорожденный, скуластый и угрюмый мальчуган,
фамилия которого была Иноков, спросил Клима: Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал
пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически
неприятны ему: математик страдал хроническим насморком, оглушительно и
грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом,
прищуривая левый глаз, историк входил в класс осторожно, как полуслепой,
и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину
всем ученикам двух первых парт, подходил и тянул тоненьким голосом: Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему, все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват •в чем-то пред ними. И хотя он скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки их гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу. Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти. На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова: кто
разбил стекло? А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу: Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь,
поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал
это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила
в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову. Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно
начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый,
лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках; затем приехал на
трескучей пролетке Ксаверий Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с
глазами совы на костлявом, бритом лице, над его желтыми висками возвышались,
как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался
и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верхней челюсти два золотых
зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное
и так, что нельзя было понять, серьезно говорит он или шутит. Наблюдать Клим умел. Он считал необходимым искать в товарищах недостатки; он даже беспокоился, не находя их, но беспокоиться приходилось редко, у него выработалась точная мера: все, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, - все это было плохо. Он уже научился не только зорко подмечать в людях смешное и глупое, но искусно умел подчеркнуть недостатки одного в глазах другого. Когда приехали на каникулы Борис Варавка и Туробоев, Клим прежде всех заметил, что Борис, должно быть, сделал что-то очень дурное и боится, как бы об этом не узнали. Он похудел, под глазами его легли синеватые тени, взгляд стал рассеянным, беспокойным. Так же, как раньше, неутомимый в играх, изобретательный в шалостях, он слишком легко раздражался, на рябом лице его вспыхивали мелкие, красные пятна, глаза сверкали задорно и злобно, а улыбаясь, он так обнажал зубы, точно хотел укусить. В азартной, неугомонной беготне его Клим почувствовал что-то опасное и стал уклоняться от игр с ним. Он заметил также, что Игорь и Лидия знают тайну Бориса, они трое часто прячутся по углам, озабоченно перешептываясь. И вот вечером, тотчас после того, как почтальон принес
письма, окно в кабинете Варавки-отца с треском распахнулось, и раздался
сердитый крик: Мальчики ушли. Лидия осталась, отшвырнула веревки и подняла
голову, прислушиваясь к чему-то. Незадолго пред этим сад был обильно вспрыснут
дождем, на освеженной листве весело сверкали в лучах заката разноцветные
капли. Лидия заплакала, стирая пальцем со щек слезинки, губы у нее дрожали,
и все лицо болезненно морщилось. Клим видел это, сидя на подоконнике в
своей комнате. Он испуганно вздрогнул, когда над головою его раздался
свирепый крик отца Бориса: Окно наверху закрыли. Лидия встала и пошла по саду, нарочно
задевая ветви кустарника так, чтоб капли дождя падали ей на голову и лицо. После этой сцены и Варавка и мать начали ухаживать за Борисом
так, как будто он только что перенес опасную болезнь или совершил какой-то
героический и таинственный подвиг. Это раздражало Клима, интриговало Дронова
и создало в доме неприятное настроение какой-то скрытности. Однажды ему удалось подсмотреть, как Борис, стоя в углу,
за сараем, безмолвно плакал, закрыв лицо руками, плакал так, что его шатало
из стороны в сторону, а плечи его дрожали, точно у слезоточивой Вари Сомовой,
которая жила безмолвно и как тень своей бойкой сестры. Клим хотел подойти
к Варавке, но не решился, да и приятно было видеть, что Борис плачет,
полезно узнать, что роль обиженного не так уж завидна, как это казалось. Дети уехали, а Клим почти всю ночь проплакал от обиды.
С месяц он прожил сам с собой, как перед зеркалом. Дронов с утра исчезал
из дома на улицу, где он властно командовал группой ребятишек, ходил с
ними купаться, водил их в лес за грибами, посылал в набеги на сады и огороды.
Какие-то крикливые люди приходили жаловаться на него няньке, но она уже
совершенно оглохла и не торопясь умирала в маленькой, полутемной комнатке
за кухней. Слушая жалобщиков, она перекатывала голову по засаленной подушке
и бормотала, благожелательно обещая: Она и Варавка становились все менее видимы Климу, казалось,
что они и друг с другом играют в прятки; несколько раз в день Клим слышал
вопросы, обращенные к нему или к Малаше, горничной; А когда играли, Варавка садился на свое место в кресло
за роялем, закуривал сигару и узенькими щелочками прикрытых глаз рассматривал
сквозь дым Веру Петровну. Сидел неподвижно, казалось, что он дремлет,
дымился и молчал. Вслушиваясь в беседы взрослых о мужьях, женах, о семейной
жизни, Клим подмечал в тоне этих бесед что-то неясное, иногда виноватое,
часто - насмешливое, как будто говорилось о печальных ошибках, о том,
чего не следовало делать. И, глядя на мать, он спрашивал себя: будет ли
и она говорить так же? Уроки Томилина становились все более скучны, менее понятны,
а сам учитель как-то неестественно разросся в ширину и осел к земле. Он
переоделся в белую рубаху с вышитым воротом, на его голых, медного цвета
ногах блестели туфли зеленого сафьяна. Когда Клим, не понимая чего-нибудь,
заявлял об этом ему, Томилин, не сердясь, но с явным удивлением, останавливался
среди комнаты и говорил почти всегда одно и то же: - Одной из таких истин служит Дарвинова теория борьбы за
жизнь, - помнишь, я тебе и Дронову рассказывал о Дарвине? Теория эта устанавливает
неизбежность зла и вражды на земле. Это, брат, самая удачная попытка человека
совершенно оправдать себя. Да... Помнишь жену доктора Сомова? Она ненавидела
Дарвина до безумия. Допустимо, что именно ненависть, возвышенная до безумия,
и создает всеобъемлющую истину... Но как только дети возвратились, Борис, пожав руку Клима
и не выпуская ее из своих крепких пальцев, насмешливо сказал: Но с этого дня он заболел острой враждой к Борису, а тот,
быстро уловив это чувство, стал настойчиво разжигать его, высмеивая почти
каждый шаг, каждое слово Клима. Прогулка на пароходе, очевидно, не успокоила
Бориса, он остался таким же нервным, каким приехал из Москвы, так же подозрительно
и сердито сверкали его темные глаза, а иногда вдруг им овладевала странная
растерянность, усталость, он прекращал игру и уходил куда-то. Лидия, наконец, предложила ему, нахмурясь и кривя губы: Черные глаза ее необыкновенно обильно вспотели слезами, и эти слезы показались Климу тоже черными. Он смутился, - Лидия так редко плакала, а теперь, в слезах, она стала похожа на других девочек и, потеряв свою несравненность, вызвала у Клима чувство, близкое жалости. Ее рассказ о брате не тронул и не удивил его, он всегда ожидал от Бориса необыкновенных поступков. Сняв очки, играя ими, он исподлобья смотрел на Лидию, не находя слов утешения для нее. А утешить хотелось, - Туробоев уже уехал в школу. Она стояла, прислонясь спиною к тонкому стволу березы,
и толкала его плечом, с полуголых ветвей медленно падали желтые листья,
Лидия втаптывала их в землю, смахивая пальцами непривычные слезы со щек,
и было что-то брезгливое в быстрых движениях ее загоревшей руки. Лицо
ее тоже загорело до цвета бронзы, тоненькую, стройную фигурку красиво
облегало синее платье, обшитое красной тесьмой, в ней было что-то необычное,
удивительное, как в девочках цирка. Задумчиво склонив голову, она пошла прочь, втискивая каблуками
в землю желтые листья. И, как только она скрылась, Клим почувствовал себя
хорошо вооруженным против Бориса, способным щедро заплатить ему за все
его насмешки; чувствовать это было радостно. Уже на следующий день он
не мог удержаться, чтоб не показать Варавке эту радость. Он поздоровался
с ним небрежно, сунув ему руку и тотчас же спрятав ее в карман; он снисходительно
улыбнулся в лицо врага и, не сказав ему ни слова, пошел прочь. Но в дверях
столовой, оглянувшись, увидал, что Борис, опираясь руками о край стола,
вздернув голову и прикусив губу, смотрит на него испуганно. Тогда Клим
улыбнулся еще раз, а Варавка в два прыжка подскочил к нему, схватил за
плечи и, встряхнув, спросил негромко, сипло: Эта сцена, испугав, внушила ему более осторожное отношение к Варавке, но все-таки он не мог отказывать себе изредка посмотреть в глаза Бориса взглядом человека, знающего его постыдную тайну. Он хорошо видел, что его усмешливые взгляды волнуют мальчика, и это было приятно видеть, хотя Борис все так же дерзко насмешничал, следил за ним все более подозрительно и кружился около него ястребом. И опасная эта игра быстро довела Клима до того, что он забыл осторожность. В один из тех теплых, но грустных дней, когда осеннее солнце,
прощаясь с обедневшей землей, как бы хочет напомнить о летней, животворящей
силе своей, дети играли в саду. Клим был более оживлен, чем всегда, а
Борис настроен добродушней. Весело бесились Лидия и Люба, старшая Сомова
собирала букет из ярких листьев клена и рябины. Поймав какого-то запоздалого
жука и подавая его двумя пальцами Борису, Клим сказал: Она убежала. Сомовы отвели Клима в кухню, чтобы смыть кровь
с его разбитого лица; сердито сдвинув брови, вошла Вера Петровна, но тотчас
же испуганно крикнула: Чувствуя, что все враждебны ему, все на стороне Бориса,
Клим пробормотал: Клим заплакал, жалуясь: А на другой день вечером они устроили пышный праздник примирения
– чай с пирожными, с конфектами, музыкой и танцами. Перед началом торжества
они заставили Клима и Бориса поцеловаться, но Борис, целуя, крепко сжал
зубы и закрыл глаза, а Клим почувствовал желание укусить его. Потом Климу
предложили прочитать стихи Некрасова "Рубка леса", а хорошенькая
подруга Лидии Алина Телепнева сама вызвалась читать, отошла к роялю и,
восторженно закатив глаза, стала рассказывать вполголоса: Все шло очень хорошо. Вера Петровна играла на рояле любимые
пьесы Бориса и Лидии - "Музыкальную табакерку" Лядова, "Тройку"
Чайковского и еще несколько таких же простеньких и милых вещей, затем
к роялю села Таня Куликова и, вдохновенно подпрыгивая на табурете, начала
барабанить вальс. Варавка с Верой Петровной танцовали вокруг стола; Клим
впервые видел, как легко танцует этот широкий, тяжелый человек, как ловко
он заставляет мать кружиться в воздухе, отрывая ее от пола. Все дети дружно
и восторженно аплодировали танцорам, а Борис закричал: Клим подметил, что враг его смягчен музыкой, танцами, стихами,
он и сам чувствовал, себя необычно легко и растроганно общим настроением
нешумной и светлой радости. Похолодев от испуга, Клим стоял на лестнице, у него щекотало в горле, слезы выкатывались из глаз, ему захотелось убежать в сад, на двор, спрятаться; он подошел к двери крыльца, - ветер кропил дверь осенним дождем. Он постучал в дверь кулаком, поцарапал ее ногтем, ощущая, что в груди что-то сломилось, исчезло, опустошив его. Когда, пересилив себя, он вошел в столовую, там уже танцевали кадриль, он отказался танцевать, подставил к роялю стул и стал играть кадриль в четыре руки с Таней. Трудные, тяжелые дни наступили для него; он жил в страхе
пред Борисом и в ненависти к нему. Уклоняясь от игр, он угрюмо торчал
в углах и, с жадным напряжением следя за Борисом, ждал, как великой радости,
не упадет ли Борис, не ушибется ли? А Варавка, играя собою, бросал гибкое
тело свое из стороны в сторону судорожно, как пьяный, но всегда так, точно
каждое движение его, каждый прыжок были заранее безошибочно рассчитаны.
Все восхищались его ловкостью, неутомимостью, его умением вносить в игру
восторг и оживление. Клим слышал, как мать сказала вполголоса отцу Бориса: В тот год зима запоздала, лишь во второй половине ноября
сухой, свирепый ветер сковал реку сизым льдом и расцарапал не одетую снегом
землю глубокими трещинами. В побледневшем, вымороженном небе белое солнце
торопливо описывало короткую кривую, и казалось, что именно от этого обесцвеченного
солнца на землю льется безжалостный холод. И она быстро побежала вперед, где, почти у берега, на красном
фоне заката судорожно подпрыгивали два черных шара. Не более пяти-шести шагов отделяло Клима от края полыньи,
он круто повернулся и упал, сильно ударив локтем о лед. Лежа на животе,
он смотрел, как вода, необыкновенного цвета, густая и, должно быть, очень
тяжелая, похлопывала Бориса по плечам, по голове. Она отрывала руки его
ото льда, играючи переплескивалась через голову его, хлестала по лицу,
по глазам, все лицо Бориса дико выло, казалось даже, что и глаза его кричат:
"Руку... дай руку..." Был момент, когда Клим подумал - как хорошо было бы увидеть
Бориса с таким искаженным, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным
не здесь, а дома. И чтобы все видели его, каков он в эту минуту. Клим глубоко, облегченно вздохнул, все это страшное продолжалось
мучительно долго. Но хотя он и отупел от страха, все-таки его удивило,
что Лидия только сейчас подкатилась к нему, схватила его за плечи, ударила
коленом в спину и пронзительно закричала: Клим стал на ноги, хотел поднять Лиду, но его подшибли,
он снова упал на спину, ударился затылком, усатый солдат схватил его за
руку и повез по льду, крича:
|
 |
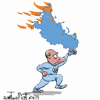 |
 |
| максим горький жизнь клима самгина библиотека революционера большевизм рабочее движение |
|
||||||
|
|
|