| максим горький мать библиотека революционера большевизм рабочее движение |
Максим Горький
Мать Роман ЧАСТЬ ПЕРВАЯ продолжение
|
|
К вечеру явился Николай. Обедали, и за обедом Софья рассказывала, посмеиваясь, как она встречала и прятала бежавшего из ссылки человека, как боялась шпионов, видя их во всех людях, и как смешно вел себя этот беглый. В тоне ее было что-то, напоминавшее матери похвальбу рабочего, который хорошо сделал трудную работу и - доволен. Теперь она была
одета в легкое широкое платье стального цвета. Она казалась выше ростом
в этом платье, глаза ее как будто потемнели, и движения стали более
спокойными. - Чудесно!.. А
теперь я поиграю. Вы как, Пелагея Ниловна, можете потерпеть немного
музыки? Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишам левой рукой. Сочно и густо запели струны. Вздохнув глубоко, к ним прилилась еще нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки, светло звеня, тревожной стаей полетели странно прозрачные крики струн и закачались, забились, как испуганные птицы, на темном фоне низких нот. Сначала мать не трогали эти звуки, в их течении она слышала только звенящий хаос. Слух ее не мог поймать мелодии в сложном трепете массы нот. Полудремотно она смотрела на Николая, сидевшего, поджав под себя ноги, в другом конце широкого дивана, разглядывала строгий профиль Софьи и голову ее, покрытую тяжелой массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечо Софьи, потом лег на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату все теснее и незаметно для матери будила ее сердце. И почему-то пред
ней вставала из темной ямы прошлого одна обида, давно забытая, но воскресавшая
теперь с горькой ясностью. Однажды покойник муж пришел домой поздно
ночью, сильно пьяный, схватил ее за руку, сбросил с постели на пол,
ударил в бок ногой и сказал: Она, чтобы защитить
себя от его ударов, быстро взяла на руки двухлетнего сына и, стоя на
коленях, прикрылась его телом, как щитом. Он плакал, бился у нее в руках,
испуганный, голенький и теплый. Она вскочила на
ноги, бросилась в кухню, накинула на плечи кофту, закутала ребенка в
шаль и молча, без криков и жалоб, босая, в одной рубашке и кофте сверх
нее, пошла по улице. Был май, ночь была свежа, пыль улицы холодно приставала
к ногам, набиваясь между пальцами. Ребенок плакал, бился. Она раскрыла
грудь, прижала сына к телу и, гонимая страхом, шла по улице, шла, тихонько
баюкая: А уже светало,
ей было боязно и стыдно ждать, что кто-нибудь выйдет на улицу, увидит
ее, полунагую. Она сошла к болоту и села на землю под тесной группой
молодых осин. И так сидела долго, объятая ночью, неподвижно глядя во
тьму широко раскрытыми глазами, и боязливо пела, баюкая уснувшего ребенка
и обиженное сердце свое... Последний раз вздохнул
гулкий аккорд, безразличный, холодный, вздохнул и замер. Софья курила папиросу.
Она курила много, почти беспрерывно. Софья бросила куда-то
начатую папиросу, обернулась к матери и спросила ее: Она сильно ударила по клавишам, и раздался громкий крик, точно кто-то услышал ужасную для себя весть, - она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда-то торопливо, растерянно; снова закричал громкий, гневный голос, все заглушая. Должно быть - случилось несчастье, но вызвало к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый и сильный и запел простую красивую песнь, уговаривая, призывая за собой. Сердце матери налилось
желанием сказать что-то хорошее этим людям. Она улыбалась, охмеленная
музыкой, чувствуя себя способной сделать что-то нужное для брата и сестры. - Мы, люди черной
жизни, - все чувствуем, но трудно выговорить нам, нам совестно, что
вот - понимаем, а сказать не можем. И часто - от совести - сердимся
мы на мысли наши. Жизнь - со всех сторон и бьет и колет, отдохнуть хочется,
а мысли - мешают. - Я вот теперь
смогу сказать кое-как про себя, про людей, потому что - стала понимать,
могу сравнить. Раньше жила, - не с чем было сравнивать. В нашем быту
- все живут одинаково. А теперь вижу, как другие живут, вспоминаю, как
сама жила, и - горько, тяжело! Слезы зазвенели
в ее голосе, и, глядя на них с улыбкой в глазах, она сказала: Она не могла насытить свое желание и снова говорила им то, что было ново для нее и казалось ей неоценимо важным. Стала рассказывать о своей жизни в обидах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно, с усмешкой сожаления на губах, развертывая серый свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, и сама поражалась ничтожностью поводов к этим побоям, сама удивлялась своему неумению отклонить их... Они слушали ее молча, подавленные глубоким смыслом простой истории человека, которого считали скотом и который сам долго и безропотно чувствовал себя тем, за кого его считали. Казалось, тысячи жизней говорят ее устами; обыденно и просто было все, чем она жила, но - так просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле, и ее история принимала значение символа. Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони и не двигался, глядя на нее через очки напряженно прищуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отрицательно покачивая головой. Лицо ее стало еще более худым и бледным, она не курила. - Однажды я сочла
себя несчастной, мне показалось, что жизнь моя - лихорадка, - тихо заговорила
она, опуская голову. - Это было в ссылке. Маленький уездный городишко,
делать нечего, думать не о чем, кроме себя. Я складывала все мои несчастия
и взвешивала их от нечего делать: вот - поссорилась с отцом, которого
любила, прогнали из гимназии и оскорбили, тюрьма, предательство товарища,
который был близок мне, арест мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа.
И мне тогда казалось, что самый несчастный человек - это я. Но все мои
несчастия – и в десять раз больше - не стоят месяца вашей жизни, Пелагея
Ниловна... Это ежедневное истязание в продолжение годов... Где люди
черпают силу страдать? Беседа текла, росла,
охватывая черную жизнь со всех сторон, мать углублялась в свои воспоминания
и, извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды, создавала тяжелую
картину немого ужаса, в котором утонула ее молодость. Наконец она сказала: Брат и сестра простились
с нею молча. Ей показалось, что Николай
Через несколько
дней мать и Софья явились перед Николаем бедно одетыми мещанками, в
поношенных ситцевых платьях в кофтах, с котомками за плечами и с палками
в руках. Костюм убавил Софье рост и сделал еще строже ее бледное лицо. Женщины молча прошли
по улицам города, вышли в поле и зашагали плечо к плечу по широкой,
избитой дороге между двумя рядами старых берез. Весело, как будто
хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей
революционной работе. Ей приходилось жить под чужим именем, пользуясь
фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов, возить пуды
запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей,
сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография,
и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту
перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот дома
своих гостей, и без верхнего платья, в легком платке на голове и с жестянкой
для керосина в руках, зимою, в крепкий мороз, прошла весь город из конца
в конец. Другой раз она приехала в чужой город к своим знакомым и, когда
уже шла по лестнице в их квартиру, заметила, что у них обыск. Возвращаться
назад было поздно, тогда она смело позвонила в дверь этажом ниже квартиры
знакомых и, войдя со своим чемоданом к незнакомым людям, откровенно
объяснила им свое положение. Мать слушала ее
рассказы, смеялась и смотрела на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая,
Софья легко и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее походке,
словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром, во всей
ее прямой фигуре было много душевного здоровья, веселой смелости. Ее
глаза смотрели на все молодо и всюду видели что-то, радовавшее ее юной
радостью. Все это подвигало
сердце ближе к женщине со светлыми глазами, и мать невольно жалась к
ней, стараясь идти в ногу. Но порою в словах Софьи вдруг являлось что-то
резкое, оно казалось матери лишним и возбуждало у нее опасливую думу: - Я не про это,
- с лица вам можно больше дать. А посмотришь в глаза ваши, послушаешь
вас и даже удивляешься, - как будто вы девушка. Жизнь ваша беспокойная
и трудная, опасная, а сердце у вас - улыбается. - Мы победим, потому
что мы - с рабочим народом! - уверенно и громко сказала Софья. - В нем
скрыты все возможности, и с ним - все достижимо! Надо только разбудить
его сознание, которому не дают свободы расти... Софья ответила
с гордостью, как показалось матери: Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но спорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспоминалось детство и та хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе. Иногда Софья негромко,
но красиво пела какие-то новые песни о небе, о любви или вдруг начинала
рассказывать стихи о поле и лесах, о Волге, а мать, улыбаясь, слушала
и невольно покачивала головой в ритм стиха, поддаваясь музыке его.
На третий день
пришли к селу; мать спросила мужика, работавшего в поле, где дегтярный
завод, и скоро они спустились по крутой лесной тропинке, - корни деревьев
лежали на ней, как ступени, - на небольшую круглую поляну, засоренную
углем и щепой, залитую дегтем. - Здравствуйте,
братец Михаиле! - крикнула мать еще издали. Ефим, сидя за столом,
зорко рассматривал странниц и что-то говорил товарищам жужжавшим голосом.
Когда женщины подошли к столу, он встал и молча поклонился им, его товарищи
сидели неподвижно, как бы не замечая гостей. Не торопясь, Ефим
пошел в шалаш, странницы снимали с плеч котомки, один из парней, высокий
и худой, встал из-за стола, помогая им, другой, коренастый и лохматый,
задумчиво облокотясь на стол, смотрел на них, почесывая голову и тихо
мурлыкая песню. Игнатий перестал
петь, Яков взял палку из рук матери и сказал: - Да-а! - медленно
и угрюмо протянул Рыбин. - Вот как, - открыто!.. Все замолчали,
не двигаясь, как бы застыв в одной холодной мысли. Вдруг Яков отшатнулся
от дерева, шагнул в сторону, остановился и, взмахнув головой, спросил
сухо и громко: Он, зловеще грозя
рукой, матерно выругался. - Намедни, - продолжал
Рыбин, - вызвал меня земский, - говорит мне: Не я - другой, не
тебе - детям твоим возместит обиду мою, - помни! Вспахали вы железными
когтями груди народу, посеяли в них зло - не жди пощады, дьяволы наши!
Вот. - Почему! - усмехнулся
Рыбин. - Такая судьба, с тем родились! Вот. Думаете - ситцевым платочком
дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и в рогоже. Вы
вот локоть в мокро на столе положили - вздрогнули, сморщились. И спина
у вас прямая для рабочего человека... Софья, взглянув
на него, сухо спросила: - Мучается! Ему
идти в солдаты, - ему и вот Якову. Яков просто говорит: "Не могу",
а тот тоже не может, а хочет идти... Думает - можно солдат потревожить.
Я полагаю - стены лбом не прошибешь... Вот они - штыки в руку и пошли.
Да-а, мучается! А Игнатий бередит ему сердце, - напрасно! Разговор оборвался.
Заботливо кружились пчелы и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали
птицы, и где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помолчав, Рыбин
сказал: Он помолчал и,
забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы: Они трое поспешно
ушли в шалаш. Когда они встали
в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и, запустив пальцы
в кудрявые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на коленях у него;
Рыбин, стоя, поймал на бумагу солнечный луч, проникший в шалаш сквозь
щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами; Яков,
стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже читал. Мать протянулась
на нарах и задремала. Софья сидела над нею, наблюдая за читающими, и,
когда оса или шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла
их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами, и ей была приятна забота
Софьи. Они ушли все трое,
оставив Софью у шалаша. А мать подумала:
Пришли дегтярники,
довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами, мать вышла из
шалаша, позевывая и улыбаясь. Тишина и сумрак
становились гуще, голоса людей звучали мягче. Софья и мать наблюдали
за мужиками - все они двигались медленно, тяжело, с какой-то странной
осторожностью, и тоже следили за женщинами. Он дышал быстро,
хватая воздух короткими, жадными вздохами. Голос у него прерывался,
костлявые пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь застегнуть
пуговицы пальто. Слушать его голос
было тяжело, и вся его фигура вызывала то излишнее сожаление, которое
сознает свое бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку,
сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся,
вытер потный лоб. - А для народа
я еще могу принести пользу как свидетель преступления... Вот, поглядите
на меня... мне двадцать восемь лет, но - помираю! А десять лет назад
я без натуги поднимал на плечи по двенадцати пудов, - ничего! С таким
здоровьем, думал я, лет семьдесят пройду, не спотыкнусь. А прожил десять
- больше не могу. Обокрали меня хозяева, сорок лет жизни ограбили, сорок
лет! Снова вспыхнул
огонь, но уже сильнее, ярче, вновь метнулись тени к лесу, снова отхлынули
к огню и задрожали вокруг костра; в безмолвной, враждебной пляске. В
огне трещали и ныли сырые сучья. Шепталась, шелестела листва деревьев,
встревоженная волной нагретого воздуха. Веселые, живые языки пламени
играли, обнимаясь, желтые и красные, вздымались кверху, сея искры, летел
горящий лист, а звезды в небе улыбались искрам, маня к себе. Яков поставил на
стол ведро с квасом, бросил связку зеленого луку и сказал больному: За столом больной
снова заговорил: - Человек создан
по образу и подобию божию, - сказал Ефим усмехаясь, - а его вот куда
тратят... Мать заметила,
что парни, все трое, слушали с ненасытным вниманием голодных душ и каждый
раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегающими глазами.
Речь Савелия вызывала на лицах у них странные, острые усмешки. В них
не чувствовалось жалости к больному. Костер горел ярко,
и безлицые тени дрожали вокруг него, изумленно наблюдая веселую игру
огня. Савелий сел на пень и протянул к огню прозрачные, сухие руки.
Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье: Мать слушала, смотрела,
и еще раз перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла
и всех, с кем он шел. Он оглянул всех,
помолчал и, бледно усмехнувшись, продолжал: Больной качнулся,
открыл глаза, лег на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес
оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей. В лесу, одетом
бархатом ночи, на маленькой поляне, огражденной деревьями, покрытой
темным небом, перед лицом огня, в кругу враждебно удивленных теней -
воскресали события, потрясавшие мир сытых и жадных, проходили один за
другим народы земли, истекая кровью, утомленные битвами, вспоминались
имена борцов за свободу и правду. - Наступит день,
когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут - довольно!
Мы не хотим более этой жизни! - уверенно звучал голос Софьи. - Тогда
рухнет призрачная сила сильных своей жадностью; уйдет земля из-под ног
их и не на что будет опереться им... Мать слушала, высоко
подняв бровь, с улыбкой радостного удивления, застывшей на лице. Она
видела, что все резкое, звонкое, размашистое, - все, что казалось ей
лишним в Софье, - теперь исчезло, утонуло в горячем, ровном потоке ее
рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше
всего - строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не
нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую
их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров
в огонь и, когда из костра поднимались рои искр и дым, - отгонял искры
и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой. Сбегал в шалаш,
принес оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи
женщин. Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая людям веру в
свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдает свою жизнь
бесплодному труду на глупые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать,
но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло
и ее грудь благодарно молитвенной думой о людях, которые среди опасностей
идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары
честного разума, дары любви к правде. На рассвете Софья,
утомленная, замолчала и, улыбаясь, оглянула задумчивые, посветлевшие
лица вокруг себя. Смягченный, он
улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе
с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его
большую фигуру и ласково посоветовала: Парни медленно,
тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые.
В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское,
и это чувство, должно быть, смущало их своей новизной. Улыбаясь сухими
от бессонной ночи глазами, они молча смотрели в лицо Софьи и переминались
с ноги на ногу. Они переглянулись,
точно это слово мягко покачнуло их. Раздался глухой кашель больного.
Угасли угли в горевшем костре. Софья, помолчав,
ответила тихо и невесело: - Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, покуда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг все осветит! - вдумчиво рассказывала мать. - Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это - без оправдания! Мысль матери остановилась
на случае, и он своим тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд
однородных выходок, когда-то известных ей и забытых ею.
Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызывала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него. Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой. Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле, обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силою звуков. Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюдуразбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее с ее размашистыми речами, - все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого, а на людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда и бестолково увеличивала труд матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами, В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай. Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью: в восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем. Как хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи, и хотя - даже говоря о страшном - улыбался тихой улыбкой сожаления, - но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает, - не может простить, - и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая. И все более он нравился ей. В девять часов
он уходил на службу, она убирала комнаты, готовила обед, умывалась,
надевала чистое платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки
в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения,
и, читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. А
рассматривание картинок увлекало ее, как ребенка, - они открывали перед
нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные
города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимые
богатства, созданные людьми, и поражающее ум разнообразие творчества
природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное,
неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную
душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно
любила рассматривать фолианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан
на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте,
богатстве и обширности земли. Более всего умиляли
ее насекомые и особенно бабочки, она с изумлением рассматривала рисунки,
изображавшие их, и рассуждала: По вечерам у него часто собирались гости - приходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с бледным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый; Роман Петрович, угреватый круглоголовый человек, всегда с сожалением чмокавший губами; Иван Данилович, худенький и маленький, с острой бородкой и тонким голосом, задорный, крикливый и острый, как шило; Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей болезнью, все разраставшейся в нем. Являлись и другие люди, приезжавшие из разных дальних городов. Николай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об одном - о рабочих людях земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая, иногда Николай, под шум беседы, молча сочинял прокламации, потом читал товарищам, их тут же переписывали печатными буквами, мать тщательно собирала кусочки разорванных черновиков и сжигала их. Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то, обижались и снова спорили. Мать чувствовала,
что она знает жизнь рабочих лучше, чем эти люди, ей казалось, что она
яснее их видит огромность взятой ими на себя задачи, и это позволяло
ей относиться ко всем ним с снисходительным, немного грустным чувством
взрослого к детям, которые играют в мужа и жену, не понимая драмы этих
отношений. Она невольно сравнивала их речи с речами сына, Андрея и,
сравнивая, чувствовала разницу, которой сначала не могла понять. Порою
ей казалось, что здесь кричат сильнее, чем, бывало, кричали в слободке,
она объясняла это себе: Но слишком часто
она видела, что все эти люди как будто нарочно подогревают друг друга
и горячатся напоказ, точно каждый из них хочет доказать товарищам, что
для него правда ближе и дороже, чем для них, а другие обижались на это
и, в свою очередь доказывая близость к правде, начинали спорить резко,
грубо. Каждый хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало
у нее тревожную грусть. Она двигала бровью и, глядя на всех умоляющими
глазами, думала: Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно не понимая их, она искала за словами чувство и видела - когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом, а здесь все разбивалось на куски и мельчало; там глубже и сильнее чувствовали здесь была область острых, все разрезающих дум. И здесь больше говорили о разрушении старого, а там мечтали о новом, от этого речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей... Замечала она, что
когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих, - хозяин становился необычно
развязен, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем
всегда, не то грубее, не то небрежнее. Ниловна ощущала
желание сказать ей: "Милая ты моя, ведь я знаю, что любишь ты его..."
Но не решалась - суровое лицо девушки, ее плотно сжатые губы и сухая
деловитость речи как бы заранее отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно
жала протянутую ей руку и думала: Однажды приехала
Наташа. Она очень обрадовалась, увидев мать, расцеловала ее и, между
прочим, как-то вдруг тихонько сообщила: - Верно вы говорите,
Наташа! - сказала мать, подумав. - Живут – ожидая хорошего, а если нечего
ждать - какая жизнь? - И ласково погладив руку девушки, она спросила:
- Одна теперь остались вы?
|
|
 |
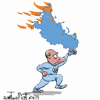 |
 |
| максим горький мать библиотека революционера большевизм рабочее движение |
|
||||||
|
|
|